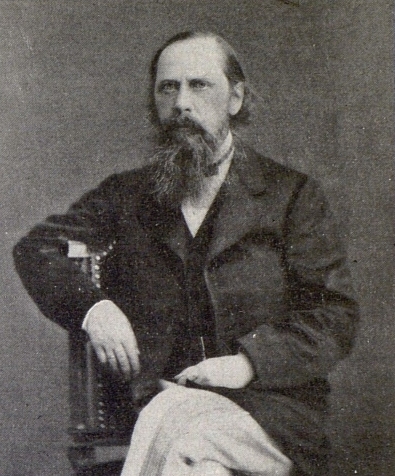| Статья написана 22 декабря 2018 г. 18:54 |
 Из аграрного захолустья в урбанизированный Питер, обратно, и вновь туда,или мещанский крестовый поход Из аграрного захолустья в урбанизированный Питер, обратно, и вновь туда,или мещанский крестовый поход«Я удивляюсь, почему ваши преступники не указывают в качестве смягчающего обстоятельства редкостное безобразие вашего города.» (не совсем традиционный классик) «Город — царство, а деревня — рай» (крестьянский народ о себе и еще каком-то народце...) *сегодня, после немалого затишья, постараюсь уложиться в чеховско-ленинские форматы из серии «кратче, да лучше», но все также буду препарировать русскую классику лезвием остросоциальности с полнейшей серьезностью и левыми экивоками*Эх, времена проходят, царей расстреливают, генсеков упраздняют, а темы вечные лишь меняют свои обертки. Но ни в коем случае не те вечные романы, в которых вечность предстает во всей своей красе. Как, например, получилось с «Обыкновенной историей» Ивана Александровича Гончарова. Хах, что забавно, тематика произведения очень тесно переплелась с моими личными чувствованиями и невзгодами нуарного донского декабря. Нет, не вбивайте себе в голову, что, мол, ясно все — любовные порывы и падения, как обычно. Отнюдь, товарищи и господа, никак нет! Не случалось их в последний год, к сожалению или счастью, а вот цейтнота везде и во всем, кучи мероприятий, планов и дел, которые необходимо выполнить, отсутствие хоть одной написанной (около)литературной строчки за последние месяца два, не говоря уже о целом рассказе... Вот это, безусловно, я испытывал, да еще как. А почем ж здесь «Обыкновенная история»? Да потому что роман этот не столько и не то, чтобы о делах любовных, а о противостоянии, точнее, контрасте двух миров. Мира Урбанизированного и мира Провинциального (Сельского). Общества и общины по Ф. Теннису или просто Города и Деревни. Возможно, мне снова привиделось присутствие чего-то не шибко литературного в романе. Вполне возможно, не отрицаю, я снова занимаюсь своими грязными делишками (обсуждении на сайте фантастического содержания гипертрофированно реалистических вещей полититного толка). Ибо сюжет на четыре пятых точно выстраивается в Петербурге, вокруг двух горожан и одного «огородившегося» провинциального дворянина. Собственно, назовем их имена — главный герой, мечтательный Александр Адуев — во всяком случае первоначально романтически и идеалистически настроенный на «большие, великие дела». Его дядя, Петр Иваныч (разумеется, тоже Адуев) — «понаехавший» петербуржец-старожил, чиновник и бизнесмен, достаточно холодный, но прагматичный и далеко глядящий человек с закрепившейся небезынтересной философией. И, конечно же, возникающая под конец первой половины романа жена Адуева-старшего — Лизавета Александрова. Но повествовательный антагонизм между племянником и дедей Адуевыми как бы намекает, что соперничество в полемическом формате ведется не просто между двумя людьми, поколениями, типажами или даже философиями. Словесная борьба с широкой полосой аргументации (которая, естественно, практически всегда завершается в пользу Петра Иваныча, ведь Александр идет путем эмоциональных, громогласных выпадов) представляет собой именно борьбу двух мирозданий. И раз уж два эти персонажа, главных героя, изображают собой эти утрированные, отфильтрованные версии своих вселенных, то стоит прийти и к следующему. Постепенные метаморфозы Александра Адуева, в финале романа становящегося (спойлер!) образом собственного дяди, можно воспринять как метафору неизбежного угасания аграрного мира и вплетание его в индустриализированную, урбанизированную реальность. В «Обыкновенной истории» этапы этого скатывания (или возвышения, кому как по душе) главного героя разделены его романтическими увлечениями. От Софьи к Наденьке, потом Юле, потом Лизе, потом... И т.д., к эпилогу. Как мне вновь кажется, все и того не проще. Контекст книги надо ловить не только в концепции «полуазиатская провинция vs европеизированная столица». Миры Александра и Петра можно уточнить и очертить гораздо лучше. Здесь представлена приход и борьба буржуазного, мещанского мира с последними феодальными пережитками. Но все-таки не строго в том смысле «феодального» как говорится порой Петром Ивановичем в виде «дикости востока по отношению к женщине», которую он вменяет Александру. Все-таки к Софье и Наде юноша не был так черств как, к примеру, к Юле, которую действительно оградил от всего мира и мужчин в нем, конечно же. А потом от скуки и «слишком легкой добычи» бросил. Здесь я, как раз, вижу уже измененного Александра Адуева — не-совсем-изначального-Александра, а Адуева-младшего в становлении к образу Адуева-старшего. Начавшего превращение в столичного мещанина. Поэтому романное мещанство объявило крестовый поход не против ужасного феодального угнетение женщины, а против положительной стороны добуржуазного общества. Размеренной, не подчиненной получению прибыли жизни, в которую можно было предаваться идеалистическим размышлением (при условии прибывания в верном сословии, конечно). Жизни честной, порядочной, правильной, красивой и счастливой. Даже более — мещанское существование поглощает и убивает в «Обыкновенной истории» деревенскую жизнь. А итог всему этому какой? Ведь до финала книги такой же путь прошел и Петр Иванович. Теперь он, безусловно, опытный, видавший виды, интересный и статный, образованный человек. Но и холодный, расчетливый, без веры в людей и все возвышенное (если возвышенными считать нормальную любовь или должную справедливость), до крайности прагматичный, любящий порой играть другими людьми (в целях, разумеется, «помочь» им), подавляющий большую часть времени в себе практически все эмоции. И все, к чему он стремится — комфорт, удобство и карьерный (финансовый) стабильный рост. И ничего более. Безусловно, под конец книги даже Адуев-старший некоторым образом преображается — в нем просыпается его истинное, забитое Городом «я». Но мещанство все равно побеждает уже в сердце повзрослевшего Александра. Слишком изнеженного своим положением провинциального, но мечтательного дворянина (но и не испорченного им — как нам показывают уже обозреваемый мной роман другого русского классика «Пошехонская старина» и многие иные произведения отечественной литературы), а впоследствии так же, как и дядя, впитавшего мещанскую, почти протестантскую этику и мировоззрение. Из-за чего, как даже Лизавета замечает, ее племянник потерял себя. Заключая свой сумбурный после долгой паузы отзыв, замечу следующее. Действительно, на театре любовных действий в «Обыкновенной истории» скрывается столкновение мещанского города, холодного, механистичного и выстроенного на культе барыша, со спокойным, честным и добродушным селом. Притом данная конфронтация более смахивает на поглощение и пережевывание буржуазной цивилизацией аграрной культуры с последующим перерождением и слиянием деревенского образа с городскими идеалами, но и некоторым искажением этих идеалов. Как мы помним, представители этих двух реальностей — Петр Иваныч и Александр — взаимно изменились. Кто-то больше, кто-то слабее, но ушли от первоначальных установок. От изначальной гипертрофированности и переизбытка в себе представляемых и защищаемых ими устоев. И выход, конечно, посередине. В том, что Кропоткин подразумевал под симбиозом города и деревни. Создание некоторого срединного, смежного состояния между этими двумя как территориально-административными типами общества, так и между двумя культурами и ментальностями. Уход как от дикости восточной деспотии и феодального патриархального забытья, так и от бездувности, антивозвышенности и опрощении города. Ибо для меня неприемлемы и нелепое простодушие Александра в начале романа, и там же холодные размышления Петра Ивановича о должном браке и грамотном ненавязчивом контроле над супругой. PS. «Обыкновенная история» показалась гораздо интереснее, живее, реалистичнее и даже комичнее (местами драматичнее), чем «Обломов», хотя последний — более поздняя работа. Не лишен своих слабостей и этот первый роман, например, местами казался странным сменяющийся темп повествования и сюжетных оборотов, но в целом гораздо ближе к настоящей жизни. Остросоциальнее. Хотя и в «Обломове» я кое-чего найти смог...
|
| | |
| Статья написана 16 сентября 2018 г. 22:22 |
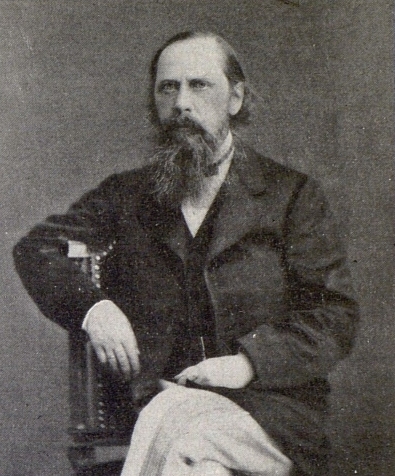 Российские левые снова о русской литературеили помещик-"буржуа" тоже плачет! Российские левые снова о русской литературеили помещик-"буржуа" тоже плачет!«Строгое было время, хотя нельзя сказать, чтобы особенно умное» (из обозначенного романа) «С недоумением спрашиваешь себя: как могли жить люди, не имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний и перспектив, кроме мучительного бесправия ... И, к удивлению, отвечаешь: однако ж жили!» (оттуда же) *в данном отзыве вновь фигурируют некоторые политико-исторические измышления, но их самая малость. Честное-пионерское! Но коль лень все читать, можно остановиться на 4 абзаце и перечитать цитаты самого автора, Салтыкова-Щедрина, а еще лучше и его произведения*Странное дело. Аннотация утверждает, что в представленном романе якобы обнажен «противоречивый период российской истории». Это, разумеется, мое сугубо личное мнение, и придираться к словам плохо, но представьте следующее. Есть вы и иной человек на каком-нибудь далеком островке в океане. Вам необходимо работать (делать что-то), дабы выжить. Вам обоим. Но вот только этот последний приводит в жизнь такой план работ: всю физическую работу делаете вы, а он забирает 90% плодов вашей деятельности. Скажите, вы воспримите это как нечто противоречивое, двояко понимаемое, неоднозначное? Думаю, при таком примере все вполне ясно, а теперь растяните одинокий островок в безбрежных водах до большой России, а двух человек помножьте на десяток-другой миллионов. Вот и выйдет «противоречивый период». Заключительные десятилетия верховенства крепостного права в Российской империи глазами поместного дворянства, то есть помноженного на миллион или чуть больше островитянского ублюдка-господина... А теперь, наконец, к самому труду Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина». «Пошехонская старина» — безупречный пестрый набор сцен из жизни Последнего Поколения, простите за помпезность. Хотя не последнего и не потерянного поколения, а потерявшего. Потерявшего Крепостное Право. Только одни потеряли возможность властвовать в 1861, а другие обязанность подчиняться этому владычеству. Вопрос, пошло ли это на пользу последних — тема отдельная, и Михаил Евграфович не обязан ее рассматривать в произведении, цель которого осветить перед читателем последние лета Крепостной России и житие тогдашних сильных мира сего. А оно было, как ни странно, далеко не всегда светлым и счастливым, ведь рабовладельческая система не приносила всем ее управителям удовлетворение и уж тем более счастье. Что уж в таком случае говорить о тех, кого система угнетала, кого перемалывала и переваривала для своего существования? Что уж говорить, имеется в виду, о крестьянах, основополагающем топливе Крепостнической России? Сказанного у Салтыкова-Щедрина и о них, и о дворянских семьях вполне достаточно для самых что ни на есть определенных выводов. В «Пошехонской старине» страдают практически все персонажи в той или иной степени. В особенности, конечно, крепостной люд. Наверное, самым ярким таким эпизодом можно назвать увиденный рассказчиком в детстве пример наказания для девочки, выкравшей кусок хлеба из хозяйского дома. Ее грязная и заплаканная фигура, привязанная к столбу возле куч навоза, где все вокруг было облеплено жирными мухами, произвело неизгладимое впечатление на юного Затрапезного. Более душераздирающей представляется история любви крепостного иконописца Павла и мещанки. Последняя, выйдя за него замуж, неизбежно потеряла статус свободной женщины, автоматически закрепостившись. Но ее воля не смогла выдержать неволи у довольно миролюбивых в отношении крепостных Затрапезных. Финал этой любовной истории, прошедший через наказания плетьми, голодовки, умирание чувств и умирание самой героини. Экс-мещанка повесилась, пусть и выбив себе от барыни Анны Павловны право на бездействие. Но это отнюдь не свобода. И множество иных ситуаций из жизни закрепощенных людей показываются на страницах «Пошехонской старины» — спившиеся балагуры, изнеможденные мужики и несчастные от наказания за бремя материнства сенные девушки. Но здесь все их печальные и грустные жизни, представляющие беспрестанный труд и безвыходное отчаяние, есть лишь фон. Огромная панорама настоящей России, которая, разумеется, крестьянская, а не помещичья. Это настоящая Россия у Михаила Евграфовича неотделима от природы, неба, полей и рек, отчего сюжет происходит и вертится вокруг дворянских персонажей и лишь порой их дворовых. И, как я уже упоминал, помещичье бытие далеко не всегда бесконфликтное и праздное. Истории каждого из членов семейства Затрапезных отлично показывают, что и далеко не все дворяне-помещики были наделены непрекращающимся счастьем. Почти все их браки, мезальянсы ли они или равные союзы, заключались безо всякой любви и порой даже элементарного взаимоуважения. Мужья избивали своих жен, пьянствовали, а когда вконец изводили свои аристократические организмы, супруги отплачивали им сполна. Самым поучительным в этом плане эпизоде для меня стала глава об Анфисе Порфирьевне и ее «покойничке», который поплатился и за жестокий нрав к крепостным, и за подобное же отношение к женушке. Правда, когда она стала хозяйствовать в поместье, положение крестьянства в нем не улучшилось. Родители рассказчика тоже любовью не были обременены, хотя до побоев не доходило. Василий Порфирыч находил себя в кабинете и церквушке, а Анна Павловна в финансовых занятиях и экономии. И в этом ее увлечении раскрывается и другая сторона на самом деле непростой жизни помещиков. Стремление к обогащению и показу этих богатств, которые могут проистекать из двух вещей. Либо строжайшей (и в этом глупейшей) экономии на самом основном, либо усилении эксплуатации крестьян (и экономии на них же). Отсюда и проистекает неслыханное «зажиточное» состояние Затрапезных, которым все соседи восхищаются. Только на обед дети Василия Порфирыча и Анны Павловны кушают похлебки из протухшего мяса. Зато копеечка-то сбережена! Конечно, в таких эпизодах трудно не припомнить Гоголя и его широчайший набор типажей помещиков, среди которых найдется место и экс-мещанке Анне Павловне. Что уж в таком случае говорить о сестрах Василия Порфирыча, папы повествователя? Коль родные дети его не живут, а прозябают, его незамужним сестренкам и того худо. Ведь им по законам православно-крепостнической России ничего не полагается, кроме милости хозяйки и брата. А милость эта оставляет желать лучшего. Их еще при жизни полу-загробное состояние вполне закономерно завершилось в келье далекого и забытого богом монастыре. Правда, одна из сестер Затрапезных и до этого не дожила... А другая, Аннушка, удивительным и совершенно безумным методом смешала помещичью логику с новозаветными канонами, сказав во истину гениальную фразу: «Христос для челяди сходил, чтобы черный народ спасти, и для того благословил его рабством». Притом даже сама оказавшись в по сути рабском состоянии, во всяком уж точно бесправном, заимев собственную госпожу — Анну Павловну, некогда дворянка стоически вытерпела плеть. Конечно, братец никак на подобное изуверство не отреагировал. Глядя на такие родственные взаимоотношения, удивительным кажется временное заселение племянника Василия, Федоса, в имение Затрапезных. Правда, в отличие от старух-сестриц, он мог наравне с мужиками поле пахать, да всякие разности чинить, и вообще мастер на все руки. Не знаю, его образ напомнил мне Льва Николаевича Толстого, а некоторые фразы так вообще позволяют примерить барину без именьица, Федосу, кафтан одного из первых народников, народовольцев и т.д. А перечисленное — лишь истории Затрапезных и их родственников. А ведь есть и другие романные дворяне, помещики или служащие высших органов, крестьянские бытописания, из которых хотелось бы напоследок отметить богобоязненного Сатира и его противопоставление Аннушке: «ежели в старину отцы продались, мы за их грех отвечать должны. Нет такого греха тяжелее, коль волю свою продал. Все равно, что душу ... кругом нас неволя окружила, клещами сжала. Райские двери навеки перед нами закрыты». И многие, многие, многие другие. Салтыков-Щедрин с добротой душевной предоставляет в даровое пользование нам, читателям, два десятка (или чуть больше) независимых рассказов на заданную тему. И все из них хоть на цитаты разбирай, хоть на примеры «Великой России, которую мы потеряли». Такую я бы каждый день терял — и не отчаивался о проделанном. А вот «Пошехонскую старину» потерять — во истину грех. Тем более не прочесть ее. Как бы я не поклонялся гению краткости и абсурдистской сатиры Чехова, Салтыков-Щедрин сатирик не чуть не худший. А то и лучший. А с прекрасным стилем, яркими образами, живыми и скребущими фибры души по сей день, никакие текстовые объемы не могут стать помехой при прочтении. Да и разве не абсурдист Михаил Евграфович? Случай с перевешением безвестного удавленника со своего участка на другой, только ради того, чтобы соседу насолить? А невероятное скопидомство Анны Павловны? Как же уже упомянутый случай с «покойничком»? Хотя какая разница, абсурдист ли Салтыков-Щедрин, не абсурдист. Он великолепный автор, замечательно обнаживший гнилую крепостническую систему, феодальщину России, которая, к сожалению, с отменой крепостного же права никуда не делась. И буржуазность, которая лишь немногим лучше предыдущей формации, странным образом образовала вместе с оной жуткий гибрид-химеру. Да, некоторые помещики разорились, но разве это столь важно, если крестьянству-то лучше не стало? Система все равно продолжила жить, лишь слегка смягчившись, но предоставляя все те же горести и крестьянам, и некоторым дворянам (как видно из романа). Таким образом, прочтение «Пошехонской старины» столь же обязательно, сколько и любого иного шедевра русской классики. Едкий, искренний, острый роман — как такое пропустить? И под конец столько еще можно сказать, столько еще вспомнить умного и красиво-печального из под-пера Салтыкова-Щедрина. Можно было бы вспомнить о «модных церквях» Москвы, где батюшки умело глаголят «place, mesdames!». Или короткую главу про никудышного сына мастеровитого дворного Затрапезной, которому она приходилась крестной матерью и которого же без всяких зазрений совести продала в солдаты. Но я лучше всего закончу, провожая ушедший с более чем две недели назад День Знаний, следующей цитатою: «Педагогика издревле торгует массой бесполезных знаний вместо действительных, подтачивая безвозвратно детскую жизнь для блага системы ... Педагогика должна быть прежде всего независимою; ее назначение — воспитывать в нарождающихся отпрысках человечества идеалы будущего, а не подчинять их смуте настоящего.»
|
| | |
| Статья написана 18 июля 2018 г. 19:40 |
 Российские левые вновь о русской литературеили как Запад России противопоставлялся в "Рудине" Российские левые вновь о русской литературеили как Запад России противопоставлялся в "Рудине"«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» (из одного известного манифеста) «Если тебе выпало счастье жить в мире ума, какое безрассудство — искать доступ в страшный, полный криков мир страсти» (А. Камю) *Как обычно, предупреждение — в данном отзыве будут мои исторические и политотные мысления. А также появятся частые обращения к иной русской литературе*Эх, насколько бедны и слепы люди, которые пренебрегают и знать не знают русской классики! Той самой, которая расцвела пышным подсолнухом в веке 19, чем зародила сложную по устройству, но все равно в глубине своей тоже русскую, советскую классику. Как мне жаль тех, кто топит Достоевского в нападках наподобие «сплошной мрак, ужас, не хочется жить, кошмар, как такое можно читать», а Толстого в «хоспадэ, какие объемы, какие объемы»... Черт, второго и я упрекал в излишней щедрости пера, но «Анна Каренина», если поставить в ней несколько иные, не общепринятые акценты, вполне и вполне хороший роман. Я уж молчу про лаконичную и пеструю на реальные факты в образном изложении публицистику графа. Она прекрасна. А Федор Михайлович! Когда нападают на него, хочу «по-господски» вызвать этого нечестивца на дуэль! Я молчу про укоры в советскую литературу и про все остальное. И людям таким невдомек, что почему-то Чехова, нашего гения малой прозы, во всем мире обожают и каждый хоть сколько-нибудь значимый актер жаждет сыграть в его ярких пьесах. Я уж молчу о почитании этого «ужасного» Достаевского, которого Ясперс причисляет к обязательным для изучения философам-литераторам. И куда без Льва Толстого! Но правда, что дело тут не только в опопсевших и ленных натурах современных «критиков», но и в упадке нашей образовательной системы... Но, простите, милейшие, отвлекся от темы! К «Рудину» Ивана Сергеевича Тургенева. Это долгое вступление было необходимо, чтобы дать почву для следующего краткого высказывания: я люблю русскую литературу. Я расслабляюсь в ней от надоевшего новояза и похабщины, от дурмана СМИ-пространства и прочего. Но не только мне в океане великих цитат великих авторов легко и приятно. Мне одновременно и нескучно. Ведь, как я уже писал в предыдущем отзыве, наша проза и поэзия той эпохи и позднее заставляет думать, и думать не только о далеком вечном, но и о здешнем. Остросоциальном и жизненно важном. Наша литература притягивает бесконечно высокое к жизни здесь и сейчас, а саму жизнь дробит на широкий, но конечный ряд отдельных проблематик. Личностных, классовых, исторических, политических и т.д., и т.д. Она превращает прозаические тексты романтизма и реализма в философию жизни в данный момент, раскрывая перед читателем всю боль, страдания и трудности мира и России. Ее народа, конечно же, стараясь по мере возможности ненароком предложить свои ответы и мысли на данный счет. Не остается в стороне от этой характеристики доподлинно русской литературы и первый романный труд Ивана Сергеевича — «Рудин». «Рудин», как и «Обломов» Гончарова — дореформенный роман (до Великих реформ Александра Второго, в частности Крестьянской), который все еще описывает прекрасную и не очерненную свободными крестьянами и борьбой классов бездельно-идиллическую жизнь помещиков. Разве что в реалистичности и многомерности поданных образов тогдашних господ жизни и их быте Тургенев явно опережает двух с половиной героев «Обломова», в котором господствует вечная мезансцена одного актера из заглавия. Все получились роскошные, колоритные, живые, отнюдь не функционалы концептов романа и холодного авторского расчета. Все индивидуальности, у каждого свой характер, манера говорения, интересы, конфликты и т.д. Взять самого самобытного и примечательного персонажа, к примеру — Африкан Семеныч Пигасов! Едко-желочный женоненавистник, но чертовски при всем этом привлекательный и запоминающийся. Его фразы можно распределять на житейские цитаты и анекдоты! Чего только стоят «А как ее зовут?» — вопрос, посвященный любой случившейся беде, ведь в каждой по-Пигасову замешана прекрасная особа! А случай с лошадью и женщиной, а неестественность всех барышень в чувствах и юмореска про осиновый кол, а три женских кита, «попрек, намек и упрек», а о трех разрядах эгоизма, а о маророссиких поэтах... И это я сейчас ссылаюсь на первые пять страниц «Рудина», которые связаны с, напоминаю, второстепенным героем! «Рудин» — это симфония характеров и типажей. При том же в большей степени, нежели «Отцы и дети» и уж точно «Накануне». Это бирюзовое чуть прохладное море, из которого не хочется вылезать. Правда, приходится, чтобы описать всю его глубинную палитру. Но вернемся от красок к мыслям. Все-таки два обозначенных великих произведения различны в охвате идейном *готовьтесь, начинается «левизна»*. Если «Обломов» по-марксистки прямо проникает в суть нарождающегося конфликта в российском обществе и государственности, беря под прицел почти-антигероя Обломова, отжившего свой век неэффективного менеджера аграрной индустрии, то «Рудин» идет иным путем. Тоже находя и ударяя по корню зреющего российского кризиса, Тургенев в «Рудине», на мой взгляд, поднимает эту самую проблему на новый уровень. Он русифицирует марксистско-обломовский вопрос, как бы это не было иронично по отношению к автору с столь сложным взглядом на свое Отечество. И при этом добавляет свою охапку вопросительных знаков. Но обо всем по порядку. Итак, на первый взгляд, «Рудин» — более-менее развлекательный (как минимум три, а как максимум и более смешных, комичных моментов в тексте явно присутствуют) тургеневский роман с изучением пороков некоторых русских типажей. Разумеется, главный такой типаж сам Дмитрий Николаевич Рудин — полуобразованный помещик, который может говорить, но не умеет делать. И кажется, что вот, пожалуйста, брат для нашего Обломова, но различие между ними глубоко. Герой Гончарова все-таки практически абсолютно оторванный от жизни рохля в достатке, который и на беседу не широк душой. Тургеневский типаж, Рудин, иного сорта. Обедневший дворянин, своей бедностью и пресловутой полуграмотностью метящий в интеллигенцию, которая-таки придет после Великих реформ. Скиталец по долгим гостям и пансионам у разных еще менее грамотных и интеллектуальных покровителей. И самое главное любимец всех возрастов своим подвешенным языком, который и с его уровнем знания (очень недурным, конечно, но не позволяющим более явно себя проявить) способен словесным фимиамом привлекать люд. А еще и такой романтичный, такой особенный, такой красивый, и все-таки такой умный. Умный на западный манер, ведь ум его именно оттуда — от их философии, от их института, от их поэтов. Как раз в этом, как мне видится, и кроется главный конфликт романа. Противоречия Ума и России, Интеллигента и Власти (или народа?), Западного системного знания и Русской самобытности. Чуть отвлекаясь от развития темы и одновременно оную же расширяя, скажу, что подобная проблематика характерна для нашей литературы. В тех и иных проявлениях образ западного мышления как неестественного и по большей части провального (но потенциально опасного или быть может спасительного) для русской души встречается в самых разных повестях и романах. Немец Вральман из «Недоросля» Фонвизина, который даже своим западным чуждым наукам не может обучить — лишь врет да курит. «Горе от ума» и грибоедовский Александр Чацкий, который научился вольнодумиям и думам в Европах, а в Великой Руси оказался чужим для холопской бюрократической химеры. «Бесы» Достоевского изобилуют подобными образами-примерами, в особенности Верховенского-старшего и -младшего. В довольно узком смысле, антиинтеллектуальный настрой, настрой против мало-мальски умного ума, способного направлять людей в своих целях и жить за их счет, может подойти и повесть Федора Михайловича «Село Степанчивково и его обитатели», но тут крайне издалека. И все это произведения, первые пришедшие в голову! Разумеется, кто-то из авторов выступает со славянофильской («патриотической», консервативной, почвеннической), кто-то с либеральной («антипатриотической», западнической, прогрессивной) позиций. И образы, вмещающие в себя представителей двух сторон этого ценностного противоречия, получаются в связи с этим с различными коннотациями и смысловыми оттенками. Но тему взаимоотношения Западного ( (псевдо)рационального, (псевдо)интеллектуального, системного, (воинствующе) нигилистического) в и с Российским (традиционным, духовным, хаотичным, самобытным, естественным, властвующим и довлеющим) в этих литературных произведениях это не отменяет. Как же, в таком случае, на данную проблему смотрит «коренной и неисправимый западник» Тургенев? Как и у Гончарова в «Обломове», в конце «Рудина» мелькают намеки на необходимость перемен. При том же в западном капиталистическом духе, с созданием нового типа людей — «делового человека». Нужен переход от сословности к классовости, от заржавевшего позднего феодализма к раннему капитализму. Но намеки эти довольно туманные, в особенности из-за того, что Рудин, преодолевший леность и ставший тургеневским Штольцем, лишь попытался им стать. Все его проекты окончились довольно плачевно. Все предпринимательские задумки у какого-то эпатажного помещика и с неким юным бизнесменом провалились. Даже переход позднего Рудина в класс «реальной интеллигенции» (то есть из псевдоинтеллектуальных болтунов к работающим трудягам умственного труда) не задался. В подобной концовке все можно, конечно, спустить на излишнюю романтичность Рудина, на его неспособность долго чем-то заниматься, на его же слишком широкое эго. Так оно и есть, но эти намеки на нужду в создании классового общества вторичны. Первично то самое взаимодействие Западного в Русском и осмысление этих отношений. Взглянем на образ Рудина со стороны иных образов, довольно русских. Со стороны Ласунских, Лежнева, Пигасова, Басистова, Липиной, Волынцева. Большинство из них восторгается и восхищается словесной высотой речей Рудина, великими смыслами, которые он излагает. Их не волнует его приживальческий статус, его попытки навязать свое мнение другим, изменить сложившийся уклад жизни в поместье. Лишь немногие, вроде Лежнева и Пигасова, сопротивляются системе, системной жизни, системному мышлению, которые пропагандирует Рудин и по поводу которых среди этих персонажей возникали споры. Они замечают то не очень нужное, слишком навязчивое и слишком не скромное вмешательство, которое вносит заглавный герой романа в их тихую жизнь. Они сопротивляются тому влиянию, которое Лежнев в конце романа хоть и окрасил в розовые тона, но не отрицал. Воздействие, которое может не просто видоизменить, но уничтожить прежнюю жизнь. Европейская идея, способная в определенный момент разорвать как управляющий аппарат российской цивилизации, так и ее саму. Нет, я ни в коем разе не антизападник, государственный патриот или поборник духовных скреп *следящие за моими отзывами уже могли понять, что это не так*. Я человек, который в силу определенного, может и неправильного, но видения истории России понимает: Россия, к счастью или к сожалению, не Европа. И нам не все европейское подходит. Тем более столь педантичное, строгое, системное и иерархизированное, как германская мысль. Ведь подумайте. Наш Рудин вдохновляется немецкими понятиями о жизни, немецким знанием, немецким бытом, немецким мышлением и т.д. Он поборник строгих систем — опять же, вспоминаем первый же спор Дмитрия Николаевича с Африканом Семенычем. Если бы он был еще и такой же работоспособный, как немецкий работяга, чуть больше образованный, как гении германской философии, оставался при этом всем столь же красноречивым и воздействующим на окружающих, все было бы иначе. Как? Добавить ко всем этим предложенным мной качествам еще и смену в голове мягкого романтизма на романтическую революционность, и пожалуйста — вот вам истовый марксист-большевик! Человек трудовой, умный, который хочет разрушить не просто буржуазно-помещичью диктату, но и крестьянскую вольницу, т.е. русскую цивилизацию как таковую. Он хочет навязать во благо то, что считает необходимым для его мысленной утопии. Не зря Рудина критики сравнивали с Бакуниным, но без тех сопутствующих параметров, которые я назвал, сходство очень блеклое. Вопрос лишь, а нужен нам такой Новый Петр? В итоге оказался нужным. Интересно, что даже в концовке «Рудина» герой гибнет в Париже с красным знаменем в руках. В итоге так случилось и в Петрограде почти сто лет спустя, правда краснознаменец не погиб, а воссел на народный престол. В итоге жизнь была преображена, и европейская системность стала великой тоталитарной диктатурой. Зато с социальной справедливостью. Но какой ценой? Нет, большевики не разрушили русскую цивилизацию, хоть и хотели ее основательно перестроить. Я не считаю уничтожение прошлых правящих классов-сословий гибелью Руси и наступлением азиатчины — того хотел крестьянский люд, истинная цивилизация России. Она просто смела паразитов-оккупантов, но в качестве новых поводырей избрала марксистов. Партию Ленина, которая постепенно сделала вольные Советы — самую демократичную народную демократию — бюрократизированной составляющей нового класса угнетателей. Но более справедливых, эффективных и полезных. Так неужели «Рудин» не просто прекрасная кладовая крылатых фраз и живее всех живых героев? Это роман-предупреждение? В чем-то, да. Если смотреть на него в наше время, когда за спиной две Мировые войны, Февраль, Октябрь да Гражданка. И неужели Тургенев и вправду видит только в Рудине возможного кандидата в спасители России? Во-первых, Лежнев правильно характеризовал не моего модернизированного, а именно тургеневского Рудина, сказав, что он делает благое дело, оживляя сердца и умы людей. Делает их живыми, чувствующими и жаждущими нового. Но мой революционный Рудин, конечно, уже фигура двоякая; способный и спасти, и одновременно убить Россию. Опять же, в реальности все оказалось сложнее. Так кто же нам нужен? Дает ли «Рудин» какие-то ответы? Мне кажется, что да. В самом начале романа один второстепенный персонаж, Пандалевский, мысленно сказал про другого, Басистова, следующее: «Мужик!.. Совершенный мужик! Испортит он этих мальчишек!». И еще материалист (в оскорбительной коннотации Пандалевского же). В этом молодом, рослом, простом, но живом и неглупом человеке, русском мужике, я, к примеру, вижу будущее. Искренний и честный, умный и работящий. Да и Лежнев Михайло Михайлович тоже походит на настоящего русского мужика, пусть он и помещик (в романе в принципе представлены помещики весьма человечные и способные к переустройству своего быта — по большей части). С виду холодный и циничный, замкнутый, а на самом деле человек широкой души и большого сердца. С некоторой язвительностью, но и неподдельной романтикой. Не белоручка. Не европеизированный, хотя и образованный западными науками. В конце книги он говорит очень дельные слова, описывающие, что не так с Рудиным и его взглядами: «...но не от философии наши главные невзгоды! Философические хитросплетения и бредни никогда не привьются к русскому: на это у него слишком много здравого смысла; но нельзя же допустить, чтобы под именем философии нападали на всякое честное стремление к истине и к сознанию. Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится! Космополитизм – чепуха, космополит – нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица; только пошлое лицо возможно без физиономии. Но опять-таки скажу, это не вина Рудина: это его судьба, судьба горькая и тяжелая, за которую мы-то уж винить его не станем». Так что дело не в том, что революционер-Рудин не прав. Дело в том, что он доподлинно не знает того, что хочет менять. Народ — это не дворяне. Даже они это понимают. Народ — он там, в селе, деревне, хуторе, ауле. Его чаяния надо понимать, им содействовать, а не строить какие-то западные песочные замки, а строить свое. Без тирании, без новых угнетателей, но с народностью и его вольницей. Таким образом, вот он, мой графоманский левый взгляд на великолепный труд Ивана Сергеевича, где мне увиделся не просто конфликт новой интеллигенции со старым миром, трагичную судьбу человечка высокого в «немытой России» или что-то подобное. Это песнь и о трудном пути нашей печальной Родины, которая все ищет правду вне себя, в чужих блистающих храмах, не видя в русской деревне правду и истину.
|
| | |
| Статья написана 10 июля 2018 г. 21:32 |
 Российские левые о русской литературеили как марксизм в "Обломове" играл Российские левые о русской литературеили как марксизм в "Обломове" играл«Благими намерениями вымощена дорога в ад» (крылатое выражение) «Равнодушие — самый страшный порок» (констатация факта) Думаю, подобная критика, точнее не критика, а интерпретация романа И.А. Гончарова «Обломов», разумеется, была. Просто не могло ее не быть. Но с позиции оставшейся юношеской пылкости, нескольких капель нигилизма и романтической революционности попробую дать свою оценку этому знаковому и на самом деле довольно важному произведению русской литературы. Решил обратиться к этой книге совсем недавно. Покамест разговаривал с младшей сестрой об ее школьной программе, вспомнив в диалоге и об «Обломове». Говорила, что после «Мастера и Маргариты» с «Преступлением и наказанием», конечно, скучноватое и чересчур неторопливое повествование. Я согласился, но настаивал на позиции, что даже не понравившуюся сначала книгу надо дочитать до конца — потому что либо конец оправдает все прочитанное ранее, либо же не оправдает, но можно будет накопить достаточно гнева для творческого удара критики по съевшей время и силы книжке. Но заставило обратить повторное внимание на книгу меня не эти сторонние и отвлеченные рассуждения, а мысли сестры об идейной составляющей «Обломова». В ее понимании это проблема поколения. И личности. Я призадумался над этим и сказал «нет». И постарался объяснить ей своей взгляд, как попытаюсь сейчас и вам. Илья Ильич, главный герой романа Гончарова, как мы знаем, помещик. Казалось бы, не жестокий, добродушный, мыслящий, образованный. Но страдающий такими пороками, как нерешительность, леность. В чем-то и слабодушие. Он воспринимается как страдалец, жертва эпохи, инвалид феодального мышления[/b]. В этом есть, на мой взгляд — субъективный и диковатый — истина, но лишь доля. Ведь мне видится в Обломове не только жертва, но и палач. Казалось бы, о чем я? Палач? Да мухи не обидит! Лежит себе спокойно на диванчике, размышляет о высоком, и липнут что только девушки да новые килограммы лишнего веса от малой физической нагрузки. Так где же он убийца? Разберемся, если определимся с проблематикой романа. «Обломов» (для меня) — не о личности или поколении. И уж тем более это не о каком-то иллюзорном «национальном характере» и тому подобному бреду. Он — о чем-то более. Книга глубже и серьезнее осознается при историческом подходе с добавлением марксизма. «Обломов» (для меня) — о сословии и определенной общественно-экономической формации. О беде нашего народа, страны, истории, цивилизации (русской, да-да, русской-российской цивилизации). «Обломов» (для меня, опять-таки) — эпитафия помещичеству. А может быть, к сожалению или счастью, даже чему-то большему... Рассмотрим конфликт Ильи Ильича и Андрея Ивановича Штольца. Да, они лучшие друзья, близкие друг другу люди и межличностного конфликта между ними нет. Зато есть конфликт скрытый от глаз, осознать который тогда было не так-то просто. Возможно, и сам Гончаров его не видел. Два эти персонажа — представители противоположных друг другу классов. Даже не классов, это и не совсем точно, а двух моделей общественно-экономических формаций. Обломов — правящее и главенствующее сословие позднего феодализма Российской империи. Штольц — новоявленный буржуа, по идее тот класс, который должен прийти на смену дворянам-землевладельцам. Занять их роль как держателей средств производства и рычагов власти. И в каком-то смысле так оно под конец романа и происходит. Фундаментальные законы классовой борьбы приводят смену на арену социальных отношений буржуазию вместо помещиков. Как это случилось и в «Вишневом саде» А.П. Чехова, только там было еще и торжество справедливости в ироничном ключе, ведь выкупивший сад купец Лопахин был из крепостных у Раевских. Но и здесь, в «Обломове», если постараться, можно узреть справедливость. Прежде всего историческую. Ну, посмотрите на это ничтожество — Обломова. Он не просто не «человек дела». Он и не «человек мысли», «человек идеалов». Настоящий человек идеалов все равно будет хоть как-то действовать. Цель мышления заключается в помышлении действия, которое надо воплотить в структуру реальности. Мышление — это цель из изменений мысли, которые должны стать изменением реальности. Но Илья Ильич на подобное не способен. Он этого и не желает. У него нет никакого ни внешнего, ни уж тем более внутреннего побуждения к действию. Он способен лишь потреблять готовое и ждать помощи со стороны. Обломовы, то есть типичные помещики, предки которых один раз выслужились перед князьком или царьком, получили землю и души, и просто потребляют создаваемый технологиями раннего Средневековья продукт подневольных крестьян. Помещик мыслит по своей природе так, что он и ему подобные не могут улучшать экономику страны, развивать ее материальную и культурную базу, да и вообще рационально управлять, быть эффективными менеджерами. Они ищут сиюминутной прибыли, которая не требует создания школ, больниц для крестьян, закупку новых пород скотины и сортов зерновых, обучения пользоваться своих рабочих этими благами и уж тем более вверять им подобные дорогие игрушки. Только балы, только охота, только любовницы, только отвлеченные мысли и усталость от «жизни«! Да, такое я даже жизнью называть не хочу. А есть буржуй Штольц, который готов все это делать, ожидать не прибыли здесь и сейчас, а и через пару лет; готов вложить свои сбережения в какое-либо дело — даже в крестьян! Ведь он знает, что здесь и сейчас важно не развлечение, а дело. И в итоге все окупится. Вот Андрей Иванович способен изменить уклад жизни в стране и ее судьбу. Примерно такая же проблематика мне видится в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя. Некоторые считают ее неактуальной, но когда же классовая борьба не была таковой! Посмотрите на этот феодальный отживающий свой день сброд: Плюшкин, Манилов, Ноздрев... Это оказались настолько беспросветные образы, литературные типы, которые являются лишь отражением реальности, что у Гоголя просто не получилось реализовать идею «дантевской трилогии«! Ибо как их можно исправить, как их можно улучшить, как такие люди способны стать лучше? Писатель понял, что никак, и сжег второй том, забросив планы на третий. Они тупиковая ветвь развития. Зато Чичиков, какой бы он мошенник и аферист не был, смотрится настоящим ангелом-предвестником светлой-новой эры. Он настоящий буржуа-делец — да, с хитрецой, доходящей до полнейшего обмана, но разве не ложь есть двигатель капитализма? Он не эксплуатирует готовенькое, не исчерпывает впустую ресурсы и несчастные жизни крестьян. Чичиков придумал хитроумный план, в котором помещики для него пешки в сложной бизнес-схеме, цель которой — надурить государство и получить свои заслуженные дивиденды. Конечно, он не Робин Гуд, но он умеет мыслить, умеет делать, умеет добиваться своих целей — согласитесь, посимпатичнее Обломова будет. А то, что подхалим... Способы у каждого свои. Ему важна цель, а не пути ее достижения. И, наконец, теперь можно вернуться к поставленному в самое начало рецензии тезису об «Обломове-палаче». Как мы знаем, не только прямыми действиями можно убить человека. Не обязательно вставлять нож в сердце, чтобы лишить людей жизней. Это можно сделать и полной бездеятельностью, как и Обломов. Помещики загнали крестьянство в рабский менталитет, скудный и мрачный быт, порой беспрецедентную жестокость и полнейшую безвольность и апатию. Хороши были те из помещиков, которые хотя бы выполняли свои обязанности по отношению к крестьянам — хоть как-то поддерживали жизнь в деревне, старались по мере сил и хотения установить там не развитие и процветание, но хотя бы стабильность. Пусть она и была с потенцией на упадок в связи с бешеным уничтожением старыми реликтовыми технологиями плодовитости почв. Обломов ушел из своей деревни, забросил свое хозяйство и мысли не подумает о крепостных. На кого он их оставил? На какого тирана-деспота... Лучше бы взял и отдал землю. Дал вольную и постарался исправить свою жизнь. Или хотя бы проявил старания в помещичьем менеджменте. Таким образом, роман Ивана Гончарова «Обломов» о целом сословии. Собрании Обломовых, которые своими действиями и бездействиями тащат народ и всю страну на дно и в будущую кровавую бурю. Россия — не Европа. Почему, как, так ли это и что из этого следует, хорошо или плохо — дело десятое и не для этого отзыва. Тем более нет тут места и для моих взглядов по этому поводу. Но суть в том, что капитализм у нас тут лишь начал заменять феодализм с сословным делением с постоянными рецидивами прошлого с Александра Второго. Помещичье землевладение никуда не делось, крестьяне зачастую стали жить еще хуже, буржуа так и не народились в достаточной степени, а взяли власть, сменили формацию лишь в Феврале. Помещики к этому времени горели со своими женами и детьми в своих усадьбах от костров разъяренных крестьян, которые-таки во имя выживания своей популяции решились на революцию и месть. «Обломов» — это мирный и не осуществившийся вариант смены формаций. Помещики не ушли мирно и тихо. Буржуа русского типа стали лишь частью новой власти, а не заменили ее. Конституционная монархия так и не возникла. Классовое общество оставалось с сословными пережитками. А экономика поглощалась иностранным капиталом и могла лишь поставлять пшеницу да прочую аграрную атрибутику. Все затянулось, а потом и завертелось. Потом кровь, революция, террор, войны. Глупости, ошибки, разочарования. И пришел другой Штольц. Точнее, были и такие, капиталистические, но объективные законы истории выбрал Штольца народного, который более соответствует, на мой взгляд, словам самого Андрея Ивановича: «Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни ... Человек создан сам устраивать себя и даже менять свою природу». И он показал такую кузькину мать всем прочим Штольцам и не-Штольцам, что... И почему все так сложилось? А все из-за Обломова. Конечно же, образного, литературного. Ненастоящего и вместе с тем до чертиков реального. До гипетрофированности. Поставишь больше "нравится" — буду чаще делать левые ретро-отзывы!
|
|
|



 облако тэгов
облако тэгов