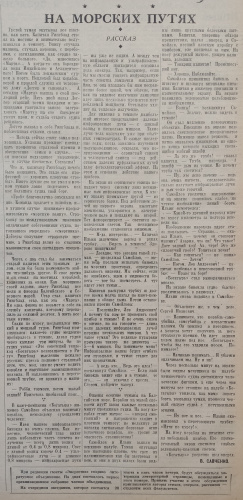Густой туман окутывал всё плотно, как вата. Капитан Рингблад стоял на мостике и внимательно вслушивался в темноту. Внизу стучала машина, стучала неровно, с перебоями, с затиханиями, как сердце тяжело больного. «Да, износилась «Марта»… А когда-то она бороздила воды Индийского и Атлантического! Потом была лоцманским судном в порту. Неплохой был корабль, верой и правдой служил он торговому дому «Доггер и сыновья»… А сегодня «Марта» вышла в свой последний рейс. Пять дней назад Доггер старший всеми правдами и неправдами ухитрился заново застраховать «Марту» на сто пятьдесят тысяч крон, и судьба старого судна решилась.
Доггер вызвал к себе Рингблада и, поблёскивая очками, сказал:
— Погода сейчас стоит самая подходящая. Условия прежние: пятнадцать процентов страховой премии и обеспечение семьи в случае… — он поискал подходящее выражение, — в случае несчастья. Согласны?
Что ж, капитану Рингбладу нечего было возразить. Это стало его профессией — хоронить пловучие «гробы». Никто лучше его не умел в ночном тумане ловко подставить под нос большого судна свой борт.
«Гроб» благополучно опускался на дно. Команда прыгает в шлюпки, и… в худшем случае принимает продолжительную «морскую ванну». Страховку по международным правилам оплачивают собственники судна, потопившего очередного «смертника». Доггеры получают страховую премию, а Рингблад делит со старшим машинистом свои пятнадцать процентов.
Чёрта с два стал бы заниматься старый капитан этим грязным делом, если бы была возможность найти что-нибудь другое. В своё время и он стоял на мостиках кораблей, ходивших за океан. Как морщины своей ладони, знает Рингблад все мели и фиорды Балтийского и Северного морей. Стар стал капитан Рингблад, стар, как эта «Марта». Ни одна фирма не возьмёт к себе на службу капитана, которому перевалило за седьмой десяток. А жить всё-таки нужно…
Сзади по курсу послышался низкий и мощный гудок. Рингблад прислушался: какое-то судно медленно пробиралось в тумане, давая гудки через каждые три минуты. Он по гудку узнал: «Это советский теплоход «Богатырь» возвращается в Ригу». Рингблад мысленно пожалел русских: пресса поднимет страшный шум, что, мол, они не умеют водить корабли и нарушают навигационные правила. И наклонившись к переговорной трубке, он крикнул в машину:
— Робби, тормози, потом малый задний! Приготовь пробковый пояс…
* * *
В кают-компании «Богатыря» инженер Самойлов объяснял капитану корабля, немолодому сухощавому человеку:
— Идея нашего инфракрасного бинокля не очень сложна. Как известно, человеческий глаз видит лишь небольшую часть спектра излучения — всего лишь волны с длиной от 0,4 до 0,8 микрона. Свет с длиной волны короче 0,4 — ультрафиолетовые лучи — и длиннее 0,8 микрона — инфракрасные лучи — мы уже не видим. А между тем на инфракрасную и ультрафиолетовую области приходится основная доля спектра. Так, например, если бы мы смогли увидеть инфракрасную часть спектра лампочки накаливания, то она казалась бы нам несравненно более яркой, чем обычно, так как на видимое излучение лампочки идёт лишь несколько процентов потребляемой мощности. Остальное уходит на тепловое излучение.
Для видения в темноте наибольший интерес представляют далёкие инфракрасные лучи — с длиной волны в несколько микрон. Такие лучи тела излучают уже при обычных температурах. В самые последние годы, когда занялись изучением полупроводников, открыли, что полупроводники — сернистый свинец и теллуристый свинец — под действием далёких инфракрасных лучей дают фотоэлектрический эффект. На этом и основано действие нашего прибора.
На экран из сернистого свинца попадают через систему линз невидимые нам инфракрасные лучи. К этому экрану примыкает другой — из сернистого бария. Под действием лучей из первого экрана вылетают электроны, ускоряются в электрическом поле и попадают на второй. Тот флюоресцирует — светится ярко-зелёным светом. Так невидимое изображение становится видимым.
— М-да, интересно… — Капитан Ильин задумчиво вертел в руках трубку. — Видеть в темноте! Здорово придумано!
— Досадно, что сегодня такой туман, — продолжал Самойлов, — меня ведь послали испытать бинокль на морских просторах, определить дальность видения. Мы сейчас, если не ошибаюсь, идём в видимости берега — вот бы посмотреть. А тут вдруг этот туман…
Капитан раскурил трубку и долгое время молча шагал по кают-компании в облаке дыма. Потом остановился против Самойлова:
— Послушайте, Лев Андреевич! А почему бы вам не проверить свой прибор в тумане? Я не очень силён в оптике, но вы говорите — длина волн далёких инфракрасных лучей порядка нескольких микрон. А что такое туман? Это водяные пузырьки примерно такого же диаметра — 5—6 микрон. Вы понимаете меня? Инфракрасные волны будут огибать эти пузырьки, и туман станет для них прозрачным.
— А ведь это… Ведь это идея! — воскликнул Самойлов. — Если наш бинокль видит ещё и в тумане, то это… — он вскочил с кресла. — Словом, пойдёмте наверх.
* * *
Опасны осенние туманы на Балтийском море. Корабли на малой скорости идут, давая каждые несколько минут протяжные гудки. На носу корабля стоит матрос — «вперёд смотрящий» и напряжённо глядит в плотную темноту: не мелькнут ли впереди сигнальные бортовые огни встречного корабля, не грозит ли опасность столкновения?
Самойлов и Ильин вышли на верхнюю палубу. Туман окутывал всё настолько плотно, что свет из иллюминаторов как бы застревал в нём, и они в двух шагах были видны лишь круглыми белёсыми пятнами. Капитан, уверенно обходя препятствия, шагал вперёд, и Самойлов, несший плоскую коробку с прибором, еле поспевал за ним. На носу дежурный матрос, увидев капитана, доложил:
— Товарищ капитан! Происшествий нет.
— Хорошо. Наблюдайте.
Самойлов привинтил бинокль к штативу и щёлкнул кнопками питания. Капитан и инженер приникли к прямоугольному экрану. На экране появились зеленоватые колеблющиеся изображения.
— Волны! — воскликнул Самойлов. — Значит, можно видеть в тумане!
Он стал медленно поворачивать объектив. Внезапно на экране появилось светло-зелёное продолговатое пятно. Инженер навёл резкость, и пятно оказалось цилиндром, из одного конца которого выходил светящийся зыбкий шлейф.
— Да это же труба! — сказал капитан. — Труба парохода. А шлейф — дым из топки. Но почему труба так светится?
— Ну, это ясно почему — ведь она очень нагрета, следовательно сильно излучает инфракрасные лучи, и дым тоже горячий.
Самойлов увеличил напряжение, и на экране появилось слабое, но чёткое изображение линий борта. Ильин всмотрелся:
— Какой-то древний пароход идёт по курсу километра за полтора впереди нас.
Изображение парохода вдруг стало наплывать.
— Странно… — сказал Ильин, — почему он стопорит машину? Авария, что ли? Что такое? Даёт задний ход! Ах, чёрт! Это же «плавучий гроб»! Топиться хочет!
— Как топиться? — не понял Самойлов. — Зачем?
— Потом, Лев Андреевич! — капитан подбежал к переговорной трубке: — Право на борт!
«Богатырь» стал разворачиваться вправо.
На экране бинокля судно быстро увеличивалось в размерах.
Ильин снова подошёл к Самойлову.
— Объясните же, в чём дело, Сергей Иванович.
— Понимаете, это корабль-самоубийца, самоубийца с корыстными целями. Он пришёл в негодность, а хозяева хотят получить за него страховую премию. Он идёт задним ходом прямо под нос «Богатыря», чтобы мы его ударили носом. Понимаете?
— Начинаю понимать… И убытки оплачиваем мы. Ну и ну!
Через несколько минут на экране были видны мечущиеся по палубе неизвестного судна светящиеся человеческие фигурки, а ещё через три минуты все стоящие на палубе «Богатыря» увидели, как мимо левого борта, разрывая туман, пронесся чёрный силуэт судна с потушенными огнями.
— Ну вот и всё. — Ильин скомандовал в переговорную трубку: «Идти по курсу!».
На носу корабля на штативе стоял небольшой прибор. Его прямоугольный экран светился слабым зеленовато-красным светом.
«Богатырь» уверенно шёл вперёд.
В. САВЧЕНКО.
Опубликовано: Энергетик: многотиражная газета Московского энергетического института, 1955, 26 марта, № 11 (828)
(подробности о публикации — см. в статье Что считать дебютом Вл. Савченко в научной фантастике)