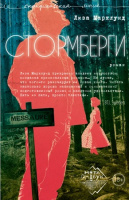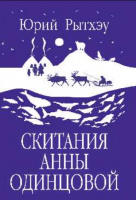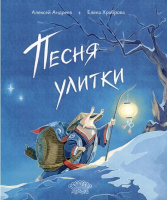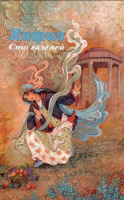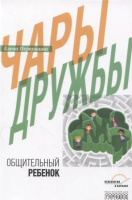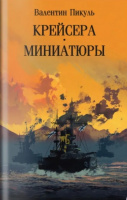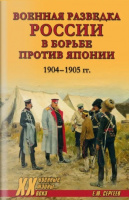Каждый месяц Алекс Громов рассказывает об 11 книгах
Нил Стивенсон. Система мира
История и фантастика тесно переплетены в этом романе, который критики называют научно-фантастическим эпосом. Действительно, на его страницах в своем легендарном великолепии предстают такие великие учёные как Исаак Ньютон, Роберт Гук, Лейбниц… Принцесса Уэльская озабочена не только нарядами и драгоценностями или хотя бы величием своей персоны, а созданием идеальной философской системы. Ради этого она старается вникнуть, насколько серьезны разногласия между Ньютоном и Лейбницем, а главное – чем они вызваны, и можно ли примирить двух ученых мужей.
При этом Ньютон занимает должность главы Монетного двора, и в этом качестве вызывает лютую ненависть фальшивомонетчиков. А среди них есть те, кто имеет очень высоких покровителей. И вот уже лично Ньютону приходится участвовать в расследовании, что называется, на местности, по-настоящему рискуя жизнью.
Представлены в тексте и наши соотечественники – царь Петр Первый, хотя он и далеко, но в разговорах его фигура упоминается постоянно. А его посланец в Лондоне господин Кикин вообще сопутствует Ньютону в его непростых делах, проводя хитроумную и, конечно, небезопасную разведку.
В тексте есть разнообразные исторические эпизоды с непростой борьбой за власть, интригами и преступлениями, а рядом с ними — моменты, которые иначе как волшебством не назовешь. Всё описанное выглядит реалистично, поэтому требуется немалая сосредоточенность, чтобы различить, когда начинается нереальное…
«— Так вы сознаётесь в сговоре с монетчиками? — ровным голосом спросил Ньютон, ничуть не захваченный общим изумлением.
— Вы давно всё вычислили, верно, сэр Исаак? Да. В сговоре с монетчиками. С монетчиком. Поймите, вначале…
— Всё казалось безобидным? — Исаак взмахнул рукой, как будто прогоняя осу. — Простите, но я узнаю начало длинной и хорошо отрепетированной речи, которую не желаю выслушивать. Чем дольше вы будете рассказывать, тем более постепенным и невинным будет выглядеть ваш путь к… государственной измене.
Тредер подпрыгнул, насколько такое возможно для человека, лежащего на спине.
— Однако, как бы вы ни затягивали рассказ, начало и конец будут те же самые, не так ли? — продолжал Исаак. — В начале вы завели внешне безобидное обыкновение взвешивать гинеи и откладывать чуть более тяжёлые. В конце вы полностью предались Джеку-Монетчику. Он внедрил своих людей в ваше окружение; вы настолько у него в руках, что он смог положить адскую машину в вашу багажную телегу с тем, чтобы уничтожить директора Монетного двора в здании Королевского общества».
Евгений Филенко. Галактический консул: Гребень волны. Гнездо феникса
Фантастический цикл, уже не раз изданный, и по-прежнему вызывающий интерес у отечественных читателей. Среди звезд всегда героям найдется занятие. И Константин Кратов передвигается по многоликому Сфазису, не имеющего своего лица. Да, здесь любой ландшафт становится декорацией…
Иерархические игры в привычном нам понимании ушли в прошлое, зато дипломатия развилась до степени главного, наивысшего искусства. Она заменяет многое – риск, авантюрность, даже героические свершения. И это вполне в гуманистическом ключе, в том смысле, что надо не враждовать а договариваться. А если вдруг для договора время не пришло, надо просто оставить другую сторону (а это может быть и целая цивилизация) в покое. Вот прямо совсем оставить, и другим настоятельно рекомендовать сделать то же самое. Может, когда-то ситуация изменится…
В книге много психологических нюансов, главный герой скорее склонен к рефлексии, чем к броскам напролом. Даже на фоне бесконечных приключений и космических странствий, к которым он, наверное, не очень-то стремился, но так распорядилась судьба.
«Ему было просто необходимо чем-то занять себя, успокоить нервы. Продержаться хотя бы до возвращения Гранта, который вместе с командором и субнавигатором улетел на гравитре обозревать окрестности маяка. Можно было, разумеется, заточить себя в каюте, но там, в четырех голых стенах, Кратов гарантированно дозрел бы до такого градуса злости, что сорвался бы, потерял лицо, что непозволительно звездоходу, пусть даже и бывшему…
Тут ему припомнились слова Ленки Климовой – командора Климовой – насчет героев-космопроходцев, прозвучавшие в первые мгновения их встречи. Кратову сделалось невыносимо гадко, и он, тихонько постанывая от омерзения к самому себе, к чертову маяку, да и ко всему миру, поплелся в душ.
Толкнув маленькую сдвижную шторку, он успел расслышать легкий шелест водяных струй и разглядеть нечто белое и округлое. В следующий момент его с истинно мужской силой сграбастали за плечо, развернули и вышвырнули в коридор, будто котенка. Шторка расправилась, за ней сухо выстрелил замок и донеслось чуть слышное хихиканье. Напрочь сконфуженный, Кратов немного пробежал по инерции, пока не уткнулся в стену.
Тут его разобрало, и он расхохотался. «Звездоход называется, – подумал он. – Брат-плоддер! Недоставало еще, чтобы рожу расцарапали». Ему сразу полегчало, удушливая пелена отвращения ко всему на свете растаяла, и он сразу вспомнил о массе дел, которые можно было переделать, никому не попадаясь на глаза».
Итак, ситуация частично прояснилась. Они уже, фактически, потратили два шанса из пяти на достижение какого-то мифического Согласия с расой Кен-Шо, но до сих пор не выяснили даже, с чем им нужно согласиться. А надо бы спросить как раз об этом».
Майк Манс. От имени Земли
В этом научно-фантастическом романе подробно описано, как меняются профессиональные и личные отношения между людьми, которые внезапно — несмотря на тщательную подготовку, каждый день приносит неожиданные события — оказались не только первопроходцами на Марсе, но, что самое важное, представителями Земли перед лицом других цивилизаций.
В текст описан именно процесс быта и происходящих на его фоне метаморфоз в том небольшом мирке марсианской базы, где обитают земные герои. Впрочем, порой кажется, что не всех их можно назвать героями, автор, описывая, казалось, не слишком важную ситуацию, показывает того или иного персонажа не с самой благоприятной стороны. Эти восемь землян, под одному от своей страны, не только мотивированы на выполнение задачи, но и обладают набором обычных человеческих слабостей. Между ними завязываются отношения, возникает неприязнь, кто-то кому-то завидует или ревнует…
Вдобавок, то, что происходит в это время на Земле, неизбежно отражается и на марсианской колонии — непростые взаимоотношения сверхдержав, шпионаж и подозрения. Было бы странно, если в современной научной фантастике оказалось иначе, а все персонажи предстали идеально бесконфликтными.
Отдельная тема — это Согласие, которое неизбежно вызывает среди землян споры и подозрения. Им предложили выступить от имени планеты и найти нужные слова, чтобы стать участниками этого Согласия, хотя они даже не вполне представляют, что это значит. Является ли Согласие неким аналогом ООН галактического масштаба? И каких действий ждут от землян? Что означает озвученная на первых переговорах фраза — чтобы прийти к Согласию, земляне должны предложить ответственность?
«Является ли Согласие принципом, которым руководствуется вселенная, или это способ разума её побороть, не дать событиям пойти по естественному сценарию, который заключается в борьбе космических цивилизаций за выживание?
А является ли борьба естественным сценарием? До того, как будет создана оптимальная форма жизни – да. Живые существа сражаются, чтобы менее приспособленные вымирали, и чтобы рано или поздно появились самые разумные, готовые создавать культуру и цивилизацию. После этого разумное животное уничтожает всех, кто мешает ему эволюционировать, заковывает их в заповедники, и соперничество между видами исчезает. Дальше культуры и цивилизации борются друг с другом, как военными способами, так и экономическими, чтобы возникла оптимальная цивилизация для рывка в космос и колонизации… А что дальше? Что должно произойти между разными цивилизациями во вселенной? Должна ли одна уничтожить другие или растворить их в себе? Или есть иное решение, без борьбы? Судя по всему, это и есть Согласие».
– Мотя, помоги, – требует Аннушка справа. – Каган заявился к великой княгине со всей свитой…
Ее перебивает Аннушка слева:
– Сколько шума будет, ты же понимаешь! Нюша, подай это, Нюша, подай то, и все требуют чая. Так не повезло, что заварочная машина все еще не фурычит!
– Опять какая-то ерунда. (Ворчу.)
Лишнее доказательство, что в проживании рядом с верхушкой власти есть далеко не только преимущества. Постоянно кто-нибудь вваливается и просит об одолжении. Все на благо новых москвичей, конечно.
– Ладно, ставьте вашу кастрюльку на мою машинку, только не разлейте, а то зашипит!».
Маттиас Зенкель. Тёмные числа
Роман немецкого писателя, родившегося в ГДР и ныне живущего в Лейпциге, в фантастической и даже откровенно гротескной форме воссоздает атмосферу позднего СССР. На этом фоне разворачивается причудливый сюжет в духе альтернативной истории. Да не простой, а именно истории становления советских вычислительных технологий, электроники и программирования. Получается эдакая техно-фантастика в стиле ретро и с многочисленными пасхалками, отсылающими и к классической советской фантастике, и к творчеству именитых писателей от Федора Достоевского до Хулио Кортасара. Поклонникам сложных текстов со скрытыми поначалу смыслами и легкими намеками на происходящее за кулисами «Темные числа» с большой вероятностью придутся по душе.
Есть в романе как элементы сарказма, отражающие чересчур пристальное внимание советских бдительных органов к новым технологиям, дающим прежде невиданные возможности и к иностранцам, так и юмору, отзеркаливающему советскую парадную действительность. Имеются даже анекдоты вроде этого: «Советский космонавт вернулся на Землю, проведя в космосе более трёхсот дней и теперь вес очередного советского ордена будет прочно удерживать его на Земле».
В тексте кипятят воду для чая на корпусе некоей электронной машины, задавая ей такую задачу, чтобы грелась посильнее. И готовятся в международной Спартакиаде программистов, вокруг которой и разворачивается значительная часть сюжета. В целом роман многослоен, разные нюансы и смыслы всплывают при неторопливом чтении.
«Москва, 27 мая 1985 года.
Провода, ведущие к телекамерам, тщательно закреплены и уложены в кабель-каналы по восемь. В видоискателе камеры номер 1 — большой конференц-зал гостиницы «Космос», ряды кресел и пустая сцена. Организаторы съёмок распорядились провести репетицию панорамирования — от матричного дисплея до лестницы, ведущей на сцену, и вдоль флагштоков до ораторской трибуны. Наплыв.
Через семь с половиной часов Дмитрию Совакову предстояло выйти к микрофону и открыть II Международную спартакиаду юных программистов».
Именно там и берет начало наше повествование – до того, как произошли убийства и ограбление в Калтисе, до того, как сгустились тайны и ложь длиной в целую жизнь. Как бродят тени на дне запруды, так и эта история выросла из осадка, оставшегося от прошлых событий.
Пропавшая жена Викинга Стормберга всплыла из болота Кальмюрен во время исполнения песенки про лягушечек. Вернее, уточним: именно тогда пришло известие. Ее нашел собиратель ягод. Она лежала недалеко от того места, где провалилась в трясину в конце лета ровно тридцатью годами ранее – у северо-западной оконечности болота».
Лиза Марклунд. Стормберги
Этот остросюжетный роман издан в серии «Скандинавская линия» (НордБук), посвященной литературе северных стран — Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии, Фарерских островов. Он является продолжением уже известных отечественному читателю «Полярный круг» и «Трясина» того же автора. Но сюжет у нового романа самостоятельный, и в нем перемешаны элементы детектива, семейной саги, психологической драмы и конспирологической истории о противостоянии спецслужб разных стран. Один из эпизодов связан с попыткой понять, что означают найденные цифры. И оказывается, что это старый анонимный счет в швейцарском банке, созданный почти сорок лет назад. И с тех пор им никто не пользовался.
Однако в первую очередь это история как места – весьма сурового, далекого от столичного лоска и комфорта, — так и людей, обитающих там. Причем то и другое тщательно и подробно запечатлено автором, в деталях и подробностях, но при этом органично вписывается в динамичный сюжет, не тормозя его. Итак, много лет назад у местного начальника полиции, представителя одной из двух самых уважаемых семей, пропала жена. Считается, что она утонула в соседнем болоте. Когда в разгар традиционного праздника приходит новость, что в болоте в том самом месте нашли человеческие останки, ни у кого нет сомнений, что это именно пропавшая женщина.
Нет их и у самого шефа полиции Викинга Стормберга. Он твердо уверен, что это не она…
Тем не менее, все вокруг выражают ему сочувствие, одновременно строго по инструкции собираясь выдвинуться в точку обнаружения. Собиратель ягод, нашедший останки, оказывается кем-то вроде браконьера – он собирал на болоте птичьи яйца из гнезд. Но перепутал редкий вид с самым распространенным, в итоге у служителей закона к нему претензий нет. Как нет представления, почему в болоте оказался скелет, пробитый деревянным (осиновым?) колом в том месте, где раньше было сердце.
«– Скелет действительно может всплыть? – вполголоса спросила Фатима.
– Закон Архимеда, – ответил Роланд Ларссон. – Зависит от плотности воды. Яйцо в воде тонет, но если добавить соды, то оно всплывет. Если в болотной воде достаточно грязи, всплывет все что угодно.
Вооружившись складной линейкой, он присел рядом с останками.
– Метр восемьдесят, – проговорил он, складывая инструмент. – Какого роста была Хелена?
– Метр шестьдесят восемь, – ответил Викинг.
– Метр восемьдесят – среднестатистический рост шведского мужчины, – сказала Фатима. – Но женщин такого роста немного.
Стало быть, велика вероятность, что перед ними мужчина.
– Что это торчит из грудной клетки? – спросил Викинг, подошел ближе и встал рядом с коллегой».
Услышав это, Анна запнулась и долго не могла прийти в себя. Она представляла шамана приблизительно так, как он выглядел на муляже в Музее этнографии, в отделе Сибири петровской Кунсткамеры на Университетской набережной в Ленинграде. Наряженный в пыльный, полуистлевший замшевый балахон, увешанный разными побрякушками, сплетенными тонкими ремешками с бусинками, металлическими шариками и крохотными медными и серебряными колокольчиками на концах, полосками разноцветной кожи, тканей, с всклокоченными темными сальными волосами, с бубном в одной руке и колотушкой в другой, он представлял скорее жалкое зрелище — никакого священного трепета он не вызывал.
…Одно дело увидеть муляж шамана в Кунсткамере, и совсем другое — столкнуться с ним лицом к лицу и даже делить с ним кров, пищу… В нем не было решительно ничего такого, что даже отдаленно намекало бы на его магические способности, на возможность общаться с потусторонними силами, возноситься над землей, превращаться в животных, вселяться в души и тела иных людей».
Юрий Рытхэу. Скитания Анны Одинцовой
Произведение известного советского писателя, созданное уже в постсоветскую эпоху, повествует о столкновении двух образов жизни, двух миров: традиционного существования по заветам предков, в гармонии с природой – и технического прогресса с новым общественным строем. Автор уделил равное внимание и описанию событий, и деталям традиционного быта – иногда шокирующим, — и человеческим чувствам.
Молодая ленинградская исследовательница Анна Одинцова в 1947 году приезжает на Чукотку, чтобы изучать жизнь коренных местных жителей. Первый, кого она встречает, сойдя с корабля – Танат, сын владельца большого оленьего стада. Он только что окончил школу-интернат, но ему уже восемнадцать, даже по меркам советских законов он совершеннолетний. Парень без памяти влюбляется в красавицу из далекого мира железных машин и больших городов, в котором он сам ни разу не был. А она мечтает проникнуть в жизнь тундрового стойбища, да и чувства к юноше тоже начинает испытывать.
Вскоре Танат и Анна становятся супругами, даже его родственники согласились скрепить их брак по местным обычаям. Хотя отец поначалу не очень верит, что невестка не сбежит из тундры в город. Он озабочен еще и тем, чтобы передать кому-то из сыновей свои шаманские умения. Вот только в большом мире разворачиваются тревожные события, и неизвестно, помогут ли теперь обращения к тайным силам.
«— Хорошо, что ты это почувствовал, — одобрительно заметил отец. — А теперь слушай внимательно. Те слова, с которыми я обратился к богам, на самом деле внешне просты и понятны каждому смертному. Все дело в том, где и в каком порядке они сказаны… Знаешь, я понял, что Пушкин, когда создавал свои стихи, пользовался этим умением ставить слова в том порядке, в нужное мгновение, чтобы они обретали магическую силу. Сила шамана в интуиции, в умении угадывать время, на мгновение опережать его. И, когда настанет твой черед обращаться к богам, главное — не ищи какие-то особенные слова, а возвышай свой дух, приводи его в состояние вдохновения. Тогда нужные слова сами придут к тебе, встанут в нужном порядке и обретут новую магическую силу. Теперь повторяй за мной:
О, силы небесные и земные!
Все, кто ведает жизнью людей и оленей!
Сделайте так, чтобы этой весною
Обилие жизни разлилось на нашей земле!
Пошли нам новых телят,
Прибавку нашему стаду —
Ибо только олень дает нам жизнь.
Вам воздаем хвалу,
Всем, кто Невидим, но Всемогущ!
Танат, немного запинаясь, повторил слова, смущаясь и внутренне удивляясь их обыденности.
— Слова обретают силу, когда они идут из самой глубины души, от самого сердца, — сказал Ринто. — Они должны изливаться свободно, как дыхание, как чистая струя родника».
сквозь чащу лесную, сквозь ветер и дождь?
— Ползу я на Фудзи, такая гора.
Мне нужно забраться наверх до утра».
Алексей Андреев, Елена Храброва. Песня улитки
Очень красивое издание, в котором к стихотворению Алексея Андреева (футуролога, эксперта, писателя, лауреата конкурсов поэзии хайку) добавлены изящные иллюстрации Елены Храбровой. Получилось настоящее произведение книжного искусства. «Песня улитки» — это поэтическое изложение древней японской легенды, в которой описано, как две звезды — Ткачиха, называемая у нас Вега, и Пастух (Альтаир) полюбили друг друга. Но жестокий отец влюбленного Пастуха разлучил их, отделив друг от друга небесной рекой – Млечным путем. Только раз в год в седьмой день седьмого месяца Ткачиха и Пастух могут встретиться снова.
И вот в книге в тот самый урочный час по склону горы Фудзи ползет маленькая улитка. В известном хайку Кобаяси Исса улитка на склоне священной горы – символ упорства и неуклонного движения к своей цели, хотя, казалось бы, масштабы Фудзиямы даже соотнести нельзя с силами крошечного существа… Это стихотворение среди отечественных читателей когда-то прославили братья Стругацкие своей «Улиткой на склоне».
Улитка в «Песне…» ползет к вершине не просто так, а чтобы немного помочь несчастным влюбленным, скрасить их короткую встречу. Она не страшится холода и готова обороняться от злых духов.
«Влюбленный не думает о мелочах:
они так спешили, забыли про чай.
А я котелок притащу на спине,
Сто красных чаинок закружат на дне…»
Множество средневековых и современных авторов писали комментарии к стихам Хафиза и составляли словари встречающихся в них образов и аллегорий… В то же время Хафиз относится к числу персидских поэтов, которых знают и ценят далеко за пределами персофонной культуры, охотно переводят на другие языки, в том числе европейские».
Хафиз. Сто газелей
В этом сборнике представлен новый поэтический перевод первых ста газелей прославленного персидского поэта XIV века Хафиза Ширази. Авторы перевода — В. Жаркова и И. Абраменко — в своей работе опирались на филологический подстрочник, ставший итогом многолетнего труда видных российских иранистов Н.И. Пригариной, Н.Ю. Чалисовой и М.А. Русанова.
Газель появилась задолго до Хафиза, но в его творчестве она достигла вершины своего развития. Именно газели Хафиза стали образцом совершенства этой поэтической формы. На его книгах столетиями было принято гадать о будущем, причем вокруг этой темы уже сложился собственный свод легенд. Одна из них рассказывает о правителе, потерявшем перстень. Он наугад открыл книгу Хафиза, чтобы погадать, куда пропала драгоценность, и прочел двустишие, которое гласило, что обладателю бесценной чаши, отражающей весь мир, не подобает горевать о ненадолго пропавшем кольце. Властитель в восторге хлопнул в ладоши, и из складок его одеяния выпал тот самый затерявшийся перстень.
До сих пор не существовало полного перевода «Дивана» Хафиза на русский язык. При этом его отдельные стихи переводились, они даже стали для наших литераторов и читателей своеобразным символом восточной поэзии. «Подражания Хафизу» к настоящему времени составили уже отдельное направление русской поэзии – от Пушкина и Лермонтова до Серебряного века.
«Основную часть наследия Хафиза составляют стихотворения-газели (перс. газал), именно этот жанр он довел до совершенства, в нем талант лирического поэта раскрылся в полной мере. Газель – небольшое по объему стихотворение, у нашего автора обычно длиной от 5 до 13 двустиший. Двустишие, называемое «бейт», представляет собой базовую единицу, «кирпичик» персидской поэзии, основные принципы которой были позаимствованы у арабов и сложились в значительной степени еще до ислама в среде кочевников-бедуинов Аравийского полуострова. Бейт состоит из двух полустиший, которые могут рифмоваться или не рифмоваться между собой. Газель представляет собой монорифмованное стихотворение: это означает, что полустишия первого бейта рифмуются друг с другом, а в последующих бейтах та же рифма повторяется во втором полустишии».
Разрешите ему и себе испытывать страх.
Признайте, что в чувстве страха нет ничего необычного и постыдного. Нормально бояться чего-то незнакомого, о чем мы толком не знаем, нормально испытывать страх в казалось бы безвыходном положении.
Многие страхи детей (да и взрослых) иррациональны, поскольку их причины спрятаны в глубине нашего сознания и хорошо защищены. Так, за «нелепой» боязнью Бабы-яги или Бармалея, возможно, скрывается серьезный страх одиночества, отвержения или смерти. Просто сам по себе исходный страх настолько ужасен, что ребенок не решается думать о нем и думает о Бабе-яге. Можно убедить его в том, что Баба-яга не существует, но тогда базовый страх найдет новую лазейку и ребенок будет бояться темноты или глубины».
Елена Первушина. Чары дружбы. Общительный ребенок
В книге популярной писательницы, получившей врачебное образование, рассказывается о разных типажах детей, их отношениях и эмоциях, воспитании детей, неуверенности родителей и самоисполняющихся пророчествах, разного рода конфликтах и попытках сделать жизнь детей счастливее.
В первой главе описаны дети-агрессоры и дети-жертвы, уделено внимание воспитанию детей с разным темпераментом, экстравертами и интровертами, с учетом характера самих родителей. Один из разделов посвящен развенчиванию многочисленных мифов, среди которых, например, такой: девочки более послушны, чем мальчики, а вот у мальчиков зато лучше развита логика и имеется больше способностей к математике.
Почему дети дерутся? Они бьют других, потому что сами несчастливы. Как отмечает автор книги, если у ребенка страдает самооценка, то он чаще всего становиться конфликтным, неуправляемым и склонным к агрессии.
Очень неоднозначным чувством является стыд. Но бывает «ложный стыд» — желание «быть как все», как-то соответствовать принятым в том или ином кругу правилам. Взрослые могут помочь ребенку справиться с ложным стыдом, учитывая особенности его характера.
Другой стороной стыда является зависть, которая зависит от самооценки. Но для того, чтобы помочь ребенку справиться с завистью, нужно признать право ребенка на это чувство, при этом помогая ребенку проявить свои лучшие качества, и при этом противостоять рекламным навязываниям и уверткам, призывающим быть не хуже других и покупать, покупать, покупать…
«Родительские амбиции.
Очень часто родители, объясняя это заботой, водят детей на бесчисленные дополнительные занятия, определяют их круг друзей и будущую карьеру. Чаще всего причина этого — зависть. Как вы уже знаете, зависть — родная дочка низкой самооценки. Родители подвержены зависти ничуть не меньше, чем дети.
Возможно, из-за недостаточной уверенности в своих силах они не решались в молодости сделать что-то важное для становления собственной личности и теперь завидуют людям, которые смогли это сделать, и надеются, что дети исправят их ошибку. Возможно, родители хотят показать себе и всему миру, что они хорошие и заботливые мама и папа, что они могут устроить жизнь своего ребенка не хуже других. В любом случае ребенок превращается из живого человека, самостоятельной личности, в некое орудие труда, используя которое родители удовлетворяют собственные амбиции, или в некий бесформенный кусок материала для создания чего-либо по собственному вкусу».
Владивосток терялся в гиблых окраинах Гнилого Угла, там же протекала и речка Объяснений, где уединялись влюбленные, чтобы, отмахиваясь от жалящих слепней, объясняться в безумной страсти. Ярко-синие воды Золотого Рога и Босфора покачивали дремлющие крейсера; под их днищами танцевали стаи креветок, сочных и вкусных, проползали на глубине жирные ленивые камбалы, а сытые крабы шевелили громадными клешнями…
Владивосток — край света».
Валентин Пикуль. Крейсера. Миниатюры
Роман «Крейсера» посвящен событиям русско-японской войны и тому, что происходило накануне, причем, как ясно из названия, центральное место в сюжете отведено флоту, матросам и морским офицерам. На первых страницах жизнь идет еще в привычном мирном ритме и мелких житейских невзгодах. Молодой мичман ссорится с командиром и просит перевода на другой крейсер – и из-за чего, спрашивается? Из-за виолончели! Мичман любитель музыки с юных лет, его бабушка даже думала, не отдать ли внука в консерваторию вместо морского корпуса. А вот командир музыку эту самую терпит с трудом, дескать, рояль в кают-компании имеется, для команды за свои деньги купил граммофон, куда еще-то?
Тем временем, маховик геополитики вовсю крутится, нагнетая напряженность между Японией и Российской империей. Большая игра – это обычно говорилось о Центральной Азии, но и тут, на Дальнем Востоке она идет вовсю. Недаром, когда японский консул во Владивостоке приказывает всем подданным императора покинуть русский город, за ними приходит именно английский транспорт.
В Петербурге известный востоковед князь Ухтомский еще говорит, что если бы японцы и русские знали друг друга получше, никакая война между ними не могла быть возможна, слишком много общих интересов. И правда, японские ремесленники, торговцы девушки, служащие нянями в русских семьях вовсе не горят желанием покидать Россию. Если бы не приказ именем императора… Японский адмирал Того уже готовит план сражения. А русский флот не собран в один кулак, корабли распределены между Порт-Артуром и Владивостоком, разделены двумя морями, Японским и Желтым.
«Сасебо — главное логово самурайского флота, чуть севернее города Нагасаки. Отсюда, из Сасебо, эскадры Того могли сразу же начинать стратегическое развертывание по всему морскому театру, проникая в Желтое море — к твердыням Порт-Артура, получали доступ и в море Японское — на путях к Владивостоку. Близ Сасебо, между берегов Японии и Кореи, совсем затерялся малоизвестный остров Цусима…
Того был высокого роста, сутуловат, лицо его смолоду покрывала сетка мелких морщин, как это бывает с древним фарфором. Английские газеты заранее делали из него героя. Лондон извещал читателей, что адмирал Того, как и все великие люди, легко переносит одиночество, он способен совсем обходиться без общества, сутками не покидая каюты своего броненосца. С берега доносилось пение японских женщин, грузивших уголь в корабельные бункеры. Большие серые крысы, забежавшие на корабли, теперь ошалело метались по трапам, обнюхивая глубокие ущелья придонных отсеков, схожие с подвалами гигантских зданий. Склянки по всей эскадре отбили тягостную полночь… 23 января микадо оповестил адмирала о начале войны с Россией».
Евгений Сергеев. Военная разведка России в борьбе против Японии. 1904—1905 гг.
Русско-японская война 1904—1905 годов стала одной из самых первых крупномасштабных столкновений с участием Японии, которая в то время начала претендовать на роль лидера в Юго-Восточной Азии. Большая часть региона представляла собой достаточно отсталые по уровню технологий страны, к тому же многие из них стали жертвами империалистической колонизации.
Одной из главных причин войны стало то, что Россия готовилась к колонизации Внешней Монголии, Маньчжурии и Кореи. Это мешало воинственным планам Японии, для которой контроль над территорией Корейского полуострова имел важнейшее стратегическое и политическое значение. Поэтому стремление Российской империи «встать твердой ногой» на берегах Тихого океана вызвало в Японии негативную реакцию, в первую очередь среди военных, жаждущих доказать боевое превосходство своих вооружённых сил над соседями.
Россия в то время по праву считалась одной из великих мировых держав, и поэтому император Николай II и его министры были уверены в скором победном завершении войны. Тем не менее, в Российской империи стала развертываться антияпонская пропаганда, которая позже перешла в шпиономанию, нашедшую своё отражение даже в произведениях русских классиков. Японское правительство и военные, при поддержке британских дипломатов и потворствующем нейтралитете Америки планомерно и тщательно готовилось к войне. Всё это подробно изложено в книге, впрочем как описание ряда действий нашего Генштаба. В тексте описано, как освещалась Русско-японская война в Отечественной прессе, в том числе — с учётом тогдашнего негативного восприятия противника.
В тексте рассказывается, о том, как в результате структурных модификаций за несколько лет до Русско-японской войны координацией военно-разведывательной деятельности занимались сразу два органа Главного штаба сухопутных сил: Военно-ученый комитет (ВУК) и Азиатское делопроизводство. Также была организована разведка флота — через Военно-морской ученый отдел Главного морского штаба. Далее в издании упомянуто создание генерал-квартирмейстерской части, которая была разделена на два управления: 1-е и 2-е. Второй из них и курировал изучение ситуации в ближнем и дальнем зарубежье.
Также в книге рассказывается о путях получения разведывательных данных, формировании системы обработки информации, действиях стратегической разведки в Европе и на Дальнем Востоке, тактической разведки в разные периоды войны.
«Определенный интерес представляла также специфика проведения агентурных мероприятий соединениями 3-й Маньчжурской армии. Например, в 5-м корпусе офицером, отвечавшим за разведку, была разработана целая система, говоря современным языком, мотивации лазутчиков: за неверные или фальсифицированные данные они могли лишиться от половины до всей суммы месячного жалованья. В то же время каждому агенту ставилась строго конкретная задача и определялся маршрут, следуя по которому он должен был фиксировать все, что видел (сооружения, транспортные средства, войсковые подразделения), доставляя с собой вещественные доказательства, желательно с клеймами японских частей и соединений. При этом сведения без подтверждения собранными предметами оплачивались крайне малыми суммами в 10—15 руб. Кроме того, на выдававшихся лазутчикам удостоверениях расписывались офицеры сторожевого охранения, удостоверявшие проход данного лица через русские позиции. Всего штаб 5-го корпуса имел 28 агентов-ходоков, из которых пятеро пропало без вести».