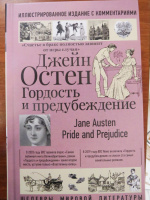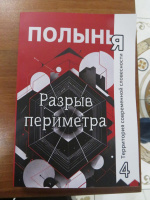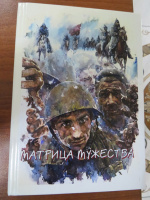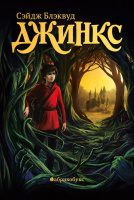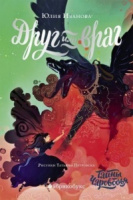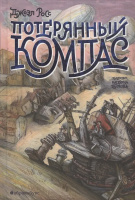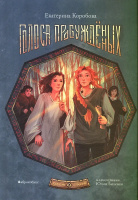21 апреля 2025 года в Петербургском доме писателя состоялось совместное заседание Секции фантастики и литературной сказки и Секции научно-популярной, документальной и публицистической литературы. Это седьмое в сезоне-2024/2025 заседание было посвящено очередному творческому вечеру вашего покорного слуги.
1 – Большая часть публики, пришедшей в зал №19; 2 – Председатель секции фантастики и литературной сказки Тимур Максютов
Сначала по сложившейся традиции писатели участвовали в «пятиминутке хвастовства». Первой выступила известная писательница и художница Марианна Алферова с презентацией иллюстрированного издания романа Джейн Остен «Гордость и предубеждение», вышедшего в свет в январе 2025 года в издательствах АСТ (Москва) и Астрель-СПб (Санкт-Петербург) (серия «Шедевры мировой литературы») (https://fantlab.ru/edition438977). Она выступила в роли иллюстратора книги и автора пространных комментариев.
Вслед за ней рассказала о своих достижениях Юлия Шутова, которая представила подготовленный ею альманах «Полынья» (Выпуск 4. «Разрыв периметра») — издан ИД «Полынья» (СПб.: 2025) (https://market.yandex.ru/product--razryv-...) и литературно-художественный сборник военной поэзии «Матрица мужества» (https://market.yandex.ru/card/matritsa-mu...) – выпущен там же.
3 – Марианна Алферова с книгой Джейн Остен, 4 – Обложка книги «Джейн Остен»; 5 – Обложка альманаха «Полынья»; 6 – Юлия Шутова со сборником «Матрица мужества»; 7 – Обложка сборника «Матрица мужества»
А потом состоялось главное событие нашего заседания – творческий вечер Леонида Смирнова, соруководителя Литературной студии имени Андрея Балабухи, члена Совета Союза писателей Санкт-Петербурга, председателя Санкт-Петербургского микологического общества et cetera. На сей раз это был юбилейный вечер, приуроченный к моему 65-летию.
Мои творческие вечера проходят начиная с 1997 года, когда я знакомил со своими творческими делами членов секции научной фантастики – по поводу предстоящего приема в Союз писателей Санкт-Петербурга.
8-9 – Леонид Смирнов и Тимур Максютов («Солдат спит – служба идет» и «Я проснулся»); 10 – Леонид Смирнов
Свое нынешнее выступление я разбил на три части. В первой части я рассказал еще об одном драматическом случае из моей биографии. С должным артистизмом, юмором и самоиронией я поведал аудитории об удивительном походе в лес 25 сентября 2009 года. Это был самый адреналиновый день в моей жизни.
Накануне вечером командующий Ленинградским военным округом предупредил питерцев, что 26-го числа начнутся масштабные окружные учения с применением боевого оружия. Значит, в моем распоряжении был целый день. Погода царила отличная – разгар «бабьего лета», на полигоне продолжался грибной слой. Через неделю от него, скорее всего, не останется и следа. Так что надо было спешить.
Ранним утром я сел в электричку, приехал на станцию Гаврилово и вот уже по рассветному солнышку шагал по лесной дороге на юг, собирая не слишком многочисленные, но очень красивые белые грибы, подосиновики, маслята, моховики и иже с ними. Въезд на полигон был открыт, мимо меня проносились автомобили конкурентов, не было слышно стрельбы, взрывов или рева моторов – ничто не предвещало неприятностей. Идя по маршруту, я пересек знаменитую Лейпясовскую отсечно-огневую позицию – один из главных участков Линии Маннергейма: давным-давно заброшенные окопы, блиндажи, доты, противотанковые рвы, гранитные надолбы – «зубы дракона» и артиллерийские позиции.
11-12 — Грибы из тех, что нашел 25 сентября 2009 года; 13 — Пейзаж у болота Кущевского; 14-15 — "Зубы дракона" в том же районе
Ближе к вечеру, когда я набрал рюкзак грибов и уже собрался поворачивать к дому – на станцию Лейпясуо, оказалось, что грибники-конкуренты куда-то рассосались. Я должен был пересечь обширное сосновое редколесье в районе болота Кущевского. Внезапно на юго-западе начали лупить гаубицы и в районе озера Желанного (километрах в трех от меня) стали греметь разрывы, значит, огонь велся боевыми снарядами. Это был неприятный сюрприз. Я прибавил хода, но с полным грибов рюкзаком (плюс вода и сменная одежда) быстро не побежишь. А потом беглый огонь был открыт и по моему участку бора. Это были бризантные снаряды, которые рвались над головой. До Линии Маннергейма оставалось еще километра полтора, а здесь спрятаться было негде – я был как на ладони.
Что же произошло? Уверен, что это сообразительные офицеры из здешней мотострелковой бригады решили подстраховаться и, чтобы не ударить в грязь лицом перед командующим округом, стали пристреливать фланги предстоящего района учений.
Взрывы следовали один за другим. Мне казалось, что мимо моего лица пролетают посеченные ветки сосновых верхушек. Пришлось перейти с быстрого шага на иноходь. Затем огонь снова был перенесен – к озеру Желанному. Я надеялся, что на этом все закончится, но нет: через несколько минут артиллеристы опять начали обрабатывать окружающее меня редколесье. Я не выдержал и медленно побежал, сгибаясь под тяжестью рюкзака. Выкинуть собранные грибы было слишком жалко. Зато мне помогал адреналин.
Когда я наконец добрался до финского противотанкового рва, сердце рвалось из груди, а пульс был под 200. За 64 года, прошедшие с войны, ров до половины оказался засыпан песком, сосновыми ветками, хвоей и шишками, но все же это было хоть какое-то укрытие. Я чуть отдышался и, пригнувшись, потрусил по нему к лесной дороге, что вела на станцию. И вот огонь прекратился. Пронесло!..
Я выбрался на дорогу, утер пот, глотнул коньяку и двинулся в Лейпясуо. Времени до поезда у меня было предостаточно, но очень скоро я понял, что не могу идти обычным шагом, — не давал зашкаливающий адреналин. Пришлось ускориться, переходя с шага на бег. Когда я поравнялся с темными осинниками, где планировал пособирать напоследок грибов, оказалось, что собирать их я тоже не могу, — только бежать припрыжку. Так я донесся до разлившегося ручья. Осеннее половодье снесло узкие мостки, в ручье плавало лишь одно короткое бревнышко. Если ступить на него – тут же уйдет под воду, и ты окунешься по грудь или по шейку. Но я не мог спокойно искать обход – ни о чем не думая, разбежался и прыгнул. С силой оттолкнулся ногой от бревнышка, оно резко пошло под воду, но я уже летел по воздуху дальше. На берегу! А впереди текла река Перовка, через которую можно было переправиться только по упавшему дереву — мост давно снесло половодьем. По дереву я пронесся за считанные секунды, ничуть не боясь зацепиться за острые сучья, поскользнуться на обескоренном стволе и упасть в реку. И снова я бежал на станцию — еще два километра. Только там я смог заставить себя сесть на скамью, переодеть насквозь мокрую одежку, выпить чаю с коньяком...
А в ночь на 26 сентября у озера Желанного участники учений применили тяжелые огнеметные системы и спалили дотла отличный сосновый бор. Так что стреляли там не по-детски. На этом история не закончилась. С каждым днем самочувствие у меня становилось все хуже: болела и кружилась голова, не держали ноги. Пришлось уйти с работы и побрести сдаваться в Поликлинику творческих работников. А там приветливо улыбающаяся дама-терапевт поздравила меня со вступлением в «клуб гипертоников», где я состою и поныне.
Писатели и гости наших братских секций выслушали эту правдивую историю с живейшим интересом и задали мне несколько ядовитых вопросов.
16 – Все те же; 17 – Ударная фраза
Во второй части выступления я отчитался о проделанной работе за последний год, что прошел с предыдущего творческого вечера. В 12 пунктов попали самые разные дела:
1) продолжение работы над библиографией отечественной фантастики (подготовка второго, исправленного и дополненного издания всех 7 томов, которая длится уже два года); на третьем этапе работы я продвинулся до буквы К;
2) приблизилась к завершению работа над четвертым романом из цикла «На руинах Галактики» (https://fantlab.ru/work1392465) (цикл был продолжен после двадцатилетнего перерыва); этот большой роман называется «Скелеты Млечного Пути»;
3) начата работа над следующим фантастическим романом под названием «Сахель»; это ведь не только обширная территория в Северной Африке – между пустыней Сахара и тропическими лесами, но еще это слово в переводе с арабского означает «граница, берег, окраина».
4) подготовлен к изданию и вышел в свет авторский сборник африканских романов «С горки на горку» (СПб.: АНОК ТЦ «Борец-Арт», 2024) (https://fantlab.ru/work1985488); при этом роман «Наперегонки со смертью» уже издавался в 2011 году, а роман «С горки на горку» опубликован впервые, пролежав в столе долгие 25 лет;
5) шла подготовка к изданию авторского сборника «Шарик над нами», о котором будет рассказано в следующей моей статье; два романа, вошедшие в его состав, были бы моей визитной карточкой в середине 90-х годов, но вышли в свет в коммерческих издательствах только в начале 2000-х;
6) написаны 11 иллюстрированных статей, размещенных в авторской колонке на Фантлабе, в том числе 9 статей, посвященных новостям питерских фантастов; наиболее ярким мне показался материал, посвященный творческим вечерам Марии Семеновой и Анны Гуровой – мастерам этнического фэнтези;
7) издана в научно-популярном журнале «Планета грибов» (2024, №1(16)) статья «Самый воинственный гриб» (о «войне» хищных грибов-кордицепсов) – моя последняя на сегодняшний день «бумажная» научно-популярная статья о грибах;
8) подготовлены и размещены на моей странице ВКонтакте (https://vk.com/id317574659) и в группе ВК «Планета грибов» свыше 100 отчетов о походах в лес на Карельском перешейке — в сопровождении более 1.000 фотографий;
9) подготовлены и размещены на моей странице ВКонтакте 42 материала о видовом разнообразии грибов Карельского перешейка (за июнь-ноябрь — на основе наблюдений 2002-2024 годов) – в сопровождении цветных диаграмм;
10) подготовлена и размещена на моей странице ВКонтакте и в группе ВК «Планета грибов» статья «Итоги роста и сбора грибов на Карельском перешейке в 2024 году» в составе 9 иллюстрированных выпусков;
11) продолжалась бесконечная работа над уникальным «Грибным дневником», где собраны десятки тысяч наблюдений за ростом грибов на Карельском перешейке за более чем полвека в сопровождении почти 100.000 фотографий;
12) участие в мониторинге редких видов грибов в ходе обновления Красной Книги Ленинградской области;
Кроме того, Смирнов вел общественную литературную работу в рамках Совета Союза писателей Санкт-Петербурга, Секции фантастики и литературной сказки и Литературной студии имени Андрея Балабухи, а также микологические изыскания в группе ВКонтакте «Планета грибов», в редсовете журнала «Планета грибов» и Санкт-Петербургском микологическом обществе (в том числе у нас прошла ежегодная осенняя выставка живых грибов в Ботаническом саду и было проведено отчетно-перевыборное собрание).
18 – И опять Леонид Смирнов и Тимур Максютов; 19 – Леонид Смирнов расшифровывает свою шпаргалку
В третьей части выступления я начал рассказывать о предыстории моего творческого пути и первых успехах и неудачах на литературном поприще (с 1976 по 1984 год). Ведь в предстоящем 2026 году у меня состоится еще один юбилей — 50-летие творческой деятельности. Самое время повспоминать...
О людях искусства среди моих предков мне ничего не известно, но творческие натуры в их числе несомненно были. Мой дед Матвей Георгиевич Воробьев (ветеран Первой мировой войны, которую закончил командиром батальона) очень любил поэта Семена Надсона и сам пописывал стихи, мать Галина Матвеевна в юности тоже сочиняла (ее стихи даже читали по вологодскому радио), потом много лет работала старшим научным редактором в издательстве «Художественная литература», выпустила книгу о трилогии А.Н.Толстого «Хождение по мукам», которая выдержала два издания. Отец (Эллий Витальевич Смирнов) и дядя (Валентин Матвеевич Воробьев) были фронтовиками и после Отечественной войны стали инженерами-изобретателями в оборонке. Именно они были большими любителями фантастики.
В детстве бабушки регулярно читали мне сказки, со временем к ним стала примешиваться и фантастика. А потому я тогда особо не разделял эти два направления литературы. Я довольно рано научился читать, но поначалу ленился — мне нравилось слушать бабушек. (Сейчас много любителей заменять невыносимо тяжелый процесс чтения книг на сладкоголосье профессионального чтеца.) В конце концов мне поставили ультиматум и вечернее чтение прекратилось. Я, как положено, поскандалил, затем преодолел себя и начал читать сам. И это оказалось чрезвычайно приятным занятием. Я больше ни от кого не зависел, сам выбирал себе книги из неплохой домашней библиотеки и мог глотать их пачками — с утра до вечера.
Одно из первых фантастических произведений, которые произвели на меня сильное впечатление, — повесть из журнала «Техника – молодежи» от 1956 года. Лишь через много лет я узнал, что это было за произведение и кто его автор: «Сокровища Громовой луны» Эдмонда Гамильтона. Среди другой фантастики, которую я освоил до десятилетнего возраста, были «Страна багровых туч» и «Извне» Стругацких, «Глиняный бог» и «Суэма» Днепрова, «Тайна астероида 117-03» Фрадкина, «Гость из бездны» Мартынова, а также непревзойденный сборник «Фантастика-67».
В моей 154-й средней школе была отличная библиотека, позднее в нее влились библиотеки еще двух школ. И при хороших отношениях с библиотекаршей я имел возможность читать много интересных книг. Так в зимние каникулы 1971 года вместо чудесных лыжных прогулок и игры в снежки я, лежа на диване, за 11 дней осилил 13 книг и едва не заболел. На следующий год мать познакомила меня с библиотекой Дома книги. Это было относительно небольшое помещение, уставленное высоченными деревянными стеллажами. Наверху они были затянуты пыльной паутиной – туда редко кто забирался. Именно там, стоя на шатких стремянках, мне удалось найти десятки «мировских» книжек из серии «Зарубежная фантастика». А в общем доступе обнаружились литературные журналы «Нева», «Аврора», «Звезда», «Юность» с повестями Стругацких, Шефнера, Шалимова, Гора… Но сначала я в один присест проглотил восьмитомное собрание сочинений Александра Беляева. Когда моя сестра вышла за муж, я стремительно осилил и книжный шкафчик ее мужа. Теперь на моем боевом счету были «Трудно быть», «Понедельник начинается в субботу» и «Улитка на склоне» Стругацких, «Люди как боги» Снегова, «Непобедимый» и «Эдем» Лема, легендарный том 10 Библиотеки современной фантастики. Я читал так много и жадно, что количество рано или поздно должно было перейти в качество.
И вот весной 1976 года у меня в голове снесло присущую большинству нормальных людей «плотину» и я вдруг ясно понял, что полон фантастических идей и должен выпустить их на свободу. И я сел писать – шариковой ручкой в толстой тетради в клеточку. Это был, конечно же, роман – об экипаже фотонного звездолета, который перелетает с планеты на планеты в поисках то ли места для земной колонии, то ли нового дома для всего человечества. И по пути с космонавтами, разумеется, происходили всевозможные приключения. Писать я не умел, но художественный вкус и логику уже обретать начал. Я чувствовал, что пишу совсем не то, что нужно, 16 раз заново начинал роман (получался текст объемом от 1/2 до 90 рукописных страниц) и наконец бросил это дело. Вердикт был таков: все написанное мной никуда не годно. И сильно разочарованный в самом себе прервал писательство почти на год.
Весной 1977 года, когда мне надо было думать об окончании школы и поступлении в институт, я стал писать свою первую фантастическую повесть. Всего этих ранних повестей у меня будет три. Последнюю я закончил аж в 1985 году. Их качество меня в конечном итоге не устроило и они сгинули где-то среди черновиков, но свою роль в моем творческом развитии несомненно сыграли.
А еще во время учебы в ЛФЭИ имени Н.А.Вознесенского в моей жизни произошли три важных события. 1) В результате работы в стройотряде летом 1978 года я заработал немного денег и смог в складчину купить портативную югославскую пишущую машинку «tbm de luxe». Это был совершенно замечательный инструмент для творчества: легкая, компактная машинка, оранжевая с белым, в белом пластмассовом чехле. Тогда такими же пользовались несколько ленинградских фантастов. Словом, я впервые смог ощутить себя полноценным писателем – во всеоружии.
2) В журнале «Техника – молодежи» №3 от 1980 года был объявлен Международный конкурс на лучший научно-фантастический рассказ. И мне захотелось в нем участвовать. Но до той поры никаких рассказов я не писал. Надо было осваивать новый жанр. И я его освоил. Довольно быстро написал рассказ «Сутки на размышление», отправил в редакцию и с чистой совестью продолжил учиться и писать повесть. Осенью нас отправили в «совхоз» на уборку картофеля, а по возвращению я обнаружил в почтовом ящике письмо из «Техники – молодежи». Литконсультант сдержанно похвалил рассказ и попросил внести в него ряд исправлений. Так я и сделал. И стал терпеливо ждать подведения итогов конкурса. Итоги меня сильно разочаровали. Мне не дали даже утешительного приза. Первое место занял рассказ Михаила Шаламова «Дорога на Кильдым», второе – рассказ о встрече испуганного космонавта с Лениным... Я в силу своей наивности далеко не сразу понял, что «неправильная» тема моего рассказа (о буднях службы по предотвращению самоубийств) заранее его похоронила – вне зависимости от качества. Однако, с тех пор я начал писать рассказы и это был еще один шаг вперед.
3) А затем состоялась встреча с известным критиком Владимиром Акимовым. Он тогда работал в отделе прозы журнала «Аврора». Акимов прочитал мою фантастическую повесть, а потом долго уговаривал меня не бросать учебу в вузе. А я, собственно, и не собирался этого делать. Я прекрасно понимал, что профессиональным фантастом смогу стать лишь через много лет, а до тех пор надо получить профессию, которая обеспечит мне кусок хлеба. Еще Акимов зачем-то сравнивал мой убогий текст с произведениями гениального Чехова. Сравнения были явно не в мою пользу. В результате нашего разговора Акимов посоветовал мне посещать секцию научной фантастики Ленинградского отделения Союза писателей СССР и семинар Бориса Стругацкого в Доме писателей на улице Воинова (ныне Шпалерной). Я пришел туда в декабре 1981 года. И остался, как я тогда думал, навсегда…
Что касается секции, то я посещал ее много лет (с перерывом на службу в армии) и тихо сидел на галерке, с удовольствием слушая умных людей, мэтров питерской фантастики. Мне надо было быть гораздо активнее и тогда моя литературная карьера пошла бы куда быстрее. Теперь-то я это хорошо понимаю. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения... Вода камень точит: через 16 с половиной лет меня приняли в Союз писателей Санкт-Петербурга и я очутился полноправным членом этой секции, которая уже стала мне родной.
Что касается семинара Бориса Стругацкого, то он существовал к тому времени 7 лет и функционировал по устоявшимся правилам. И стал он уже велик, а потому трудно управляем. Борис Натанович прочитал рекомендательное письмо Акимова и скривил лицо. Потом я понял, что уж лучше бы я пришел в Дом писателя без ничего – как говорится, с улицы. Выходит, сотрудничество Стругацких с «Авророй» 70-х годов оставило у них горький осадок, о чем не подозревал мой рекомендатель. Так или иначе Борис Натанович принял мои рукописи и сказал «Ну, ходите пока». Я долго ждал его вердикта. На мой нервный вопрос он всякий раз отвечал: «Еще не прочитал». И вот наконец прозвучало похоронным звоном: «Я прочитал уже давно и ничего не помню. Там ведь было что-то о болоте… Ну, так и быть, посещайте». (Речь шла о моем рассказе «Утамутале», где я описывал работу галактической службы по защите редких животных и растений.) Я так расстроился тогда, что ушел с занятия – бродить по весеннему солнечному городу. Но я как миленький явился на следующее занятие. Разве у меня был выбор?..
Семинар Бориса Стругацкого того времени оставил у меня двоякое впечатление. С одной стороны, прочитать рукопись перед обсуждением такому как я новичку было очень трудно, ведь рукописи были машинописные – в одном, в лучшем случае, в двух экземплярах. Сначала их получали старожилы семинара, а мы – в последнюю очередь. При большом везении я мог договориться по телефону, бросив все дела, лететь на другой конец города, получить рукопись на один вечер и завтра же передать ее кому-то еще. А без знания текста какое уж тут обсуждение?.. С другой стороны, даже простое присутствие на обсуждениях фантастики давало мощный толчок творческому вдохновению и прочищало мозги. Наверняка на меня влиял и масштаб личности Бориса Натановича, и эрудиция плюс полемический дар его учеников, и колоссальная плотность интеллекта на квадратный метр зала, где мы собирались. Словом, подобного мощнейшего просветления я больше в жизни никогда не испытывал.
Первый мой учебный сезон в семинаре подошел к концу в мае 1982 года. А в июне после защиты диплома я сдал госэкзамены, закончив учебу в институте. После отпуска, будучи лейтенантом-двухгодичником, я отправился к месту военной службы – в Закавказский военный округ. В штабе округа получил назначение в штаб 4-й армии в Баку, откуда меня направили в гарнизон с "бодрым" названием Гюздек – «змеиное место». Наш военный городок размещался в солончаковой полупустыне, усеянной низкими сопками – потухшими грязевыми вулканами. С собой у меня была сумка с вещами и чемодан, где пряталась пишущая машинка.
В штабе части, где мне предстояло служить, я без долгих предисловий спросил своего нового начальника, разрешат ли мне в свободное от исполнения должностных обязанностей время печатать рассказы? Ответ мог быть каким угодно – вплоть до очень грубого, но капитан Тиханков проявил мудрость: я с удивлением получил добро — при условии, что буду печатать на моей «tbm de luxe» штабные документы (вольнонаемная машинистка категорически не справлялась с их объемом). Сказано – сделано.
В армии у меня было не так много времени для творчества, но все же я написал там два рассказа, еще несколько переделал плюс редактировал уже написанное. Хорошо помню, что придумал продолжение моего первого рассказа — большой эпизод о марсианском гипер-каньоне и его обитателях. Вскоре я удалил этот кусок из текста, вернувшись к первоначальному варианту, но много лет спустя в полностью переработанном виде он вошел в состав романа "Венчание Хамелеона". И это было правильно.
Готовые тексты я рассылал в журналы в больших конвертах с армейским адресом. Снисхождения к опусам молодого лейтенанта никто не проявил, но зато ответы на письма я получал в наикратчайшие сроки.
В конце июля 1984 года служба моя закончилась, из раскаленного Апшерона я вернулся в родной город, который встретил меня живительной прохладой. И через два месяца впервые после долгого перерыва я поднимался по ступеням Дома писателя, где меня весьма радушно приняли собратья по перу. Но это уже другая история…
20 – И опять, и снова…
Этим летом Союз писателей Санкт-Петербурга был лишен доступа в Петербургский дом писателя, и вполне вероятно, я больше не смогу проводить творческие вечера. Хотя мне очень хотелось бы и дальше встречаться с друзьями и единомышленниками. Однако, поживем — увидим…
В материале использованы фотографии автора и Н.Потаповой.
 облако тэгов
облако тэгов