В октябре 2013 года «Wydawnictwо Literackie» издало второй том писем Ст. Лема. Первый том, как могут помнить заинтересованные стороны, содержал переписку Лема и Мрожека, и касался широкого круга вопросов: от литературы до управления автомобилем.
Второй том – а называется он «Слава и Фортуна» («Sława i Fortuna») – содержит письма Ст.Лема, направленные им своему американскому переводчику, Майклу Кэндлу. Письма эти относятся к периоду 1972-1987 (с явным перевесом тех, что написаны в 70-е), сама же книга, заметим, не столько ПЕРЕписка, сколько именно сборник писем Ст. Лема. В силу особенностей адресата, письма тоже содержат информацию специфическую – они не только литературоцентричны, они еще и переводческоцентричны. Как можно судить по размещенным в сети отрывкам из писем, они могли бы служить изрядным подспорьем и к перечтению русскоязычных переводов Лема – по крайней мере, выработка общего языка перевода на английский между автором и транслятором подразумевала и оглашение Лемом своих credo и принципов.
Собственно, чуть ниже я попытался – сколь получилось внятно – дать переводы четырех писем, затрагивающих именно эти темы.
(Тут не могу не отметить, что читая их, приходилось – раз за разом – примерять то, что говорил о принципах перевода своих произведений Лем, на самого себя: учитывая, прежде всего, опыт работы над «Иными песнями»; и думается мне, что будь «Слава и Фортуна» у меня на момент начала работы, кое-какие вещи удалось бы сделать лучше – и с первого раза).
Итак, слово Станиславу Лему.
1
Краков, 24 марта 1972
Дорогой пан.
...Вы правы – конечно же, юмор мой – инфернальный. В том-то оно и дело, иначе, полагаю, чтение было бы слишком отталкивающим. Глазурь остроумия подслащивает таблетку лишь в миг, когда ее глотаешь, затем остается горечь, которую – и не должно, полагаю, Вас в том убеждать – я не сам себе придумал, ибо происходит она, скорее, извне, т.е. из мира, в котором мы обитаем. Да: Достоевский, возможно, наиболее близкий мне духовно писатель, хотя это – близость болезни, несчастья, ада, усталости и, наконец, призрака могилы, а не какая-то там иная. Цитаты из Достоевского можно найти, например, в моих «Диалогах» (из «Писем из подполья», напр.). Что же до Вашего голода за Абсолютом... голод этот, пожалуй, известен и мне, но я частным образом убедился в том, что удовлетворить его невозможно, поскольку Абсолют не существует в воспринимаемом образе; в определенном смысле, единственный Абсолют, или единственная «модель» Бога, каковую я могу всерьез принять – это Бог деструкцианцев из «21 путешествия Тихого», поскольку там содержится вероисповедание – т.е. было оно описано со всей серьезностью, на какую меня вообще хватает. В «Философии случая» довольно много эксплицитно выраженных предуведомлений о том, чем эта книга НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, что в ней не рассмотрено, а в частности, практически полностью – эстетическая проблематика, проблематика переживания эстетического предмета, поскольку я полагаю, что для нее мой метод не подошел бы, а потому здесь не может быть и речи о разнице мнений между нами – просто я сознательно молчал на эту тему, которая кажется мне совершенно недискурсивной.
Вы полагаете, что я жду от американцев слишком многого – в культуре? В то время как я, собственно, ничего слишком многого не ожидаю, так мне кажется. Научную фантастику я разрушал в меру сил и возможностей во всем, что я о ней писал, и прежде всего как обманутый, смертельно скучающий, разочарованный и систематически одуревающий Читатель, а не просто как писатель. Я отважился недавно искренне ответить по-английски на вопросы, которые мне ставили как раз в рамках этого круга проблем (НФ) – одному из канадских фэнзинов, а если они опубликуют мои ответы, я постараюсь, чтобы попали они к Вам в руки, поскольку выражают они мои истинные убеждения, как те могут быть в меру невнятно сформулированы. Ваши замечания насчет значимости, которую мы здесь приписываем культуре, в свою очередь кажутся мне парадоксальными, поскольку, собственно, именно в этой сфере множество дел и персон у нас долгое время после войны просто уничтожалось; однако я прекрасно понимаю, что относительность мерных инструментов, что мы оба используем, появляется от разницы в истории наших стран, поскольку мы находились под угрозой буквально смертельной, в культуре прежде всего (да и в биологии – тоже), а для американцев речь всегда идет об игре в Апокалипсис, а не о нем самом, пережитом лично.
Что же до польской литературы, произведения и писатели из святцев не всегда совпадают с произведениями и писателями, которых я ценю больше прочих. Не знаю, известно ли вам что-либо о творчестве Яна-Юзефа Щепаньского («Польская осень», «Штаны Одиссея», «Буфы», «Икар», «Остров», «Конец вестерна»)? Я вспоминаю о нем не потому, что он – мой друг, но потому, что считаю его произведения исключительно «долгоиграющими», несмотря на определенную внешнюю грубоватость или некоторую неувлекательную серость, каковую кое-кто в них видит. Более громкий, чем он, Т. Конвицкий, дарим мною уважением и признанием, но это люди – в том числе и в книгах своих – несравнимые.
Может, когда-нибудь мы сумеем, наконец-то, поговорить лично. Оказий хватает, посольство США в Польше уже дважды предлагало мне полугодичную, а то и более длительную, поездку в Штаты, но я отказался по ряду причин, главным образом из-за недостатка времени, но возможно еще и из-за самолюбия, поскольку готов признать, что предпочел бы, будучи у вас, оказаться не персоной совершенно анонимной, чтобы хоть несколько моих книг вышли к тому моменту в Штатах. Ведь знаю я, сколь на самом-то деле (и Манн об этом писал, хоть и был Олимпийцем) комична и несерьезна фигура литератора – а уж литератор анонимный, о котором неизвестно ничего, поскольку даже о книгах его не слышали, становится фигурой совершенно автопародийной.
Д-р Роттенштайнер, мой агент, а превыше всего – австриец, слегка чудак, слегка философ, слегка разочарованный любитель НФ, еще и пессимист, и именно потому полагает, что судьба «Кибериады» уже предрешена. Однако же, как вы видите, так оно пока что не есть. Все еще впереди – по крайней мере, в том малом сегменте, что касается судьбы пары моих книжек в Штатах. Надеюсь, мероприятие это будет удачным – не думаю о рыночном успехе, о лотерее бестселлеров, но просто о том, что Ваш труд, вложенный в перевод, не пройдет даром.
Книги? Вы слишком прекраснодушны! Пока что не стану просить ни об одной – имея в виду, что если нужда прижмет, то и вправду обращусь к Вам по этому делу.
С сердечными благодарностями,
Ст. Лем.
P.S. Из положения писателей-из-гетто-НФ «мэйнстрим» наверняка мнится родом Аркадии, но на самом деле я не разделяю их заблуждений; фактор случайности правит карьерой произведений, публика нынче пресыщена и равнодушна как никогда, искусство, тронутое легким безумием, пожирает собственный хвост и добирается уже до кишок самого себя, до печени – сердце уже выедено, – и какие же я могу питать иллюзии насчет этих материй, особенно если и меня, в свою очередь, пожирает т.н. Философический Бес?
P.S.S. А правда ли, что Вы собираетесь писать на тему «Lem in search of Utopia»? Горячо поддерживаю! И попрошу без милосердия!
2
Краков, 8 мая 1972
Дорогой пан,
получил я Ваше письмо и одновременно письмо от г-жи Реди, рассказывающий, как Вы двоитесь и троитесь, делая одновременно столько добрых дел моим книгам, третируемым различнейшими персонами. Кроме этих действий – терапевтических, редакторских, стилистических и т.д., – над Вами висит еще и перевод «Кибериады». Я бы хотел в меру своих малых возможностей помочь Вам в этом. Прежде всего, скажу, что мое знание насчет того, как делается нечто, подобное «Кибериаде», это знание a posteriori, т.е. я сперва написал книгу, а потом уж начал задумываться, откуда что взялось. В «Фантастике и футурологии» на эту тему найдется необычайно мало, а парадигматикой и синтагматикой фикционного словотворчества я занимался чуть шире в «Философии случая» (с. 339 и пр.), и там найдется несколько общих замечаний. Однако дело неимоверно затрудняется из-за совершенно иных возможностей для языковых игр на английском и на польском. Полагаю, главная сложность состоит в отыскании четкой априорной парадигмы для каждой историйки – или стилистического выверта.
По сути, этот выверт, этот языковый план, патронирующий большую часть рассказов в «Кибериаде», – это Пасек, пропущенный через Сенкевича и высмеянный Гомбровичем. Это – определенный фрагмент истории языка, который нашел потрясающе знаменитое фундаментальное воплощение в произведениях Сенкевича – в «Трилогии»; ибо Сенкевич сделал нечто совершенно неслыханное – а именно сделал так, что его язык («Трилогии») все образованные поляки (за исключением несущественного числа языковедов) рефлекторно полагают «более аутентично» соответствующим второй половине XVII века, нежели язык источников тех времен. Гомбрович набросился на это и обрушив в ничто сей памятник, из осколков его сложил свой «Транс-Атлантик» – свой, пожалуй, единственный (в значительной мере – именно потому!) непереводимый на другие языки роман.
Потому я полагаю, что некий монолитный план условной архаизации, как налета, как фоновой краски, будет необходим в переводе, однако невежество в области английской литературы делает невозможным для меня высказывание конкретных предложений, к каким писателям следовало бы здесь обращаться. Иначе говоря, наиважнейшим является присутствие в коллективном сознании (по крайней мере, у персон, получивших образование) именно той парадигмы, что выполняла бы функцию чтимого образца (Как Отцы Говаривали). То есть, получается, архаизация моя, будучи условной и невзрачной, одновременно оказывается отсылкой, с ироничным прищуром, к таким вот существенным для польского языка, уважаемым традициям. Отсюда эти нагромождения эпитетов, взятых из латыни, давным-давно ополяченных и почти уже не употребляемых, но, все же, понятных, и одновременно своей понятностью указывающих на свой источник. Только-то и скажу в плане генеральном, чтобы не впасть во вредный академизм (поскольку это НЕ МОЖЕТ, КОНЕЧНО ЖЕ, быть действительно каким-то «железным правилом», которого следует придерживаться).
Затем наступает фатальная проблема низших уровней лексики и составляющих. Здесь не все безнадежно, поскольку английский содержит в себе удивительно много латыни (впрочем, это-то и не странно, имея в виду, сколь долго римляне душили англичан), однако это настолько сложно, что подавляющее большинство говорящих по-английски не отдает себе в этой «латинизации» собственного языка отчета. Создание неологизмов – штука мнимо легкая, а на самом деле – паскудная. Неологизм должен обладать смыслом, хотя и не обязан иметь смысл собственный: этот смысл в него может вкачивать контекст. Но чрезвычайно важной остается проблема – можно ли, имея перед собой неологизм, перейти на рельсы тех ассоциаций, какие подразумевал автор? Как если бы он, желая употребить вместо «публичного дома» неологизм, ввел термин «сексодром» («lubieżnia»). Но было бы, полагаю, разумным употребить где-то недалеко от того слова то, которое с ним может ассоциироваться: слово на «-дром» («bieżnia» – «дорожка»). Если этот «-дром» не появится, то могут просто-напросто пропасть отсылки комического характера (сексодром («bieżnia seksualna» – «сексуальная беговая дорожка») – телесный марафон – и пр.). Пример этот я взял здесь ad hoc. Конечно же, он служит лишь для экземплификации того, о чем я говорю, но стать подмогой при переводе нисколько не может. Отход от оригинального текста во всех таких случаях должен бы стать прямым приказом, а не только возможностью.
И вот, есть у меня впечатление (поскольку – не знаю этого наверняка), что определенные достоинства «Кибериады» берут начала в том явлении, которое я назвал бы контрапунктностью, содержащейся в языке – контрапунктностью, которая состоит в противопоставлении друг другу различных уровней языка и различных стилей. А именно: в повествовании с легко архаизированной подстилизацией появляются термины строго физические, причем – суперсвежайшего происхождения (кавалеристы – но держат в руках лазеры; лазеры – но обладающие прикладами и пр.). Стиль тогда словам, в определенной мере, сопротивляется, слова же архаическому окружению удивляются; по сути, это основа поэтической работы («дивящиеся себе слова»). Речь идет о том, чтобы «ни одна сторона» не могла одержать дефинитивную победу. Чтобы целостность не смогла перевеситься ни в сторону физики, ни в сторону архаизации – решительным образом, чтобы только продолжалась балансировка, чтобы продолжалась некая осцилляция. Приводит это к некоторому читательскому «раздражению», результатом которого должен стать, конечно же, ощутимый комизм ситуации, а не раздражение...
«Послушайте, милостивые государи, историю о Ширинчике, короле кембров, девтонов и недоготов, которого похоть до гибели довела» (пер. К.Душенко). («Posłuchajcie, moi panowie, historii Rozporyka, króla Cembrów, Deutonów i Niedogotów, którego chutliwość ku zgubie przywiodła»)
А) Запев взят из «Тристана и Изольды». В) Ширинчик (Rozporyk) – это Теодорих (Teodoryk), скрещенный с ширинкой (z rozporkiem) на штанах. С) Остроготов я сделал Недоготами, потому что «недоготы» (наверняка) соотносились у меня с чем-то недоГОТовленным. D) Девтоны (Deutonowie) – дейтроны (deuterony) и т.д. Е) Кембры (Cembrowie) – ит. кимбры или германские, истребленные Марием, кимвры; лат. Цимбер (Cimber) («і» перешло в «е», чтобы полонизироваться и приблизиться к CEBRО – «ведру»).
Конечно, если бы я писал аналитически, исходя из словарей, то я бы в жизни ни одной книги не дописал бы – все само мешается в ужасной моей башке.
Что бы мог я Вам посоветовать? А) Идиоматику современной стратегии, любимицу Пентагона (откуда пошло MOUSE-Minimal Orbital Unmanned Satellite, Earth; всякие там Эниаки, Джениаки и пр.; MIRTV-ы (Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle) и т.д. Сильны ли Вы в этом пречудесном словарном запасе? Он содержит в себе огромные гротескные возможности! В) Слэнг, конечно же. С) Кто-то всем известный и целостный – для отсылок, но, как я уже говорил, не соображу, кто именно: исторический писатель, что соответствовал бы Дюма для Франции, Сенкевичу для Польши (но Дюма был куда бледнее языково). D) Словарь кибернетически-физический (можно его разбивать, обновлять идиоматические выражения – feedback — feed him back – не знаю вот сейчас, сразу, что бы здесь можно было сделать, но могу представить себе контекст, в котором возможны были бы отсылки к современности, опирающиеся на кибернетические термины). Е) Ну и язык ЮРИДИЧЕСКИЙ! – язык дипломатических нот, язык правовых кодексов, язык конституций и пр. И прошу не опасаться бессмыслицы! (например, в «Кибериаде» есть «Kometa-Kobieta»; конечно же, главное здесь – аллитерация и рифма, а не смысл; аналогично можно было бы сделать «planet Janet», «cometary commentary» и пр.). Даже совершенно «дико» всаженные современные слова подчиняются контексту и выполняют функцию локального украшения и «о-чудо-ждения». Еще – контаминации (strange – estrangement – если бы удалось сюда вставить strangulation, то могло бы это оказаться неплохо). Ну, как-то так.
Тут, кстати, маргинальное примечание – в некоторых своих фрагментах «Дневник, найденный в ванной» был написан белым ритмизированным стихом (разговор священника с героем после оргии). Ритм порой замечательно несет, но принуждать к тому фразы слишком упорно – не следует, это я уже знаю.
Недостатки могут, после усиленных размышлений, становится и преимуществами (cometary commentary about a weary cemetery). Пишу это Вам, поскольку смелость наступает не сразу. Даже наглость, нахальство – необходимы здесь (в языковом, разумеется, смысле). Можно указать на это, сопоставляя довольно несмелые «Сказки роботов» с «Кибериадой» или первую часть «Киб.» со второй, в которой господствует эта вот разнузданность. (Напр., я сооружал себе длинные списки слов, начинающихся на «киб-кибер-цебер» – и искал корни с «бер» – чтобы прийти к «кибарбарис» («cyberberys») от «барбариса» («berberysu»), и т.д. Можно бы: «Cyberserker», «cyberhyme», но это звучит не так хорошо, как по-польски. (Впрочем, возражать я не стану). Также можно выстраивать фразы из «мусора» (отрывков из модных шлягеров, детских считалок, поговорок, складывая их в кучу безо всякой жалости).
Желаю успехов!
Сердечно,
Ст. Лем.
3
Закопане, 9 июня 1972
Дорогой пан,
добралось до меня уже Ваше письмо от 25 мая, говорящее о двух делах: о словотворчестве в славянском и английском языке, и о «Дневнике». Что до первого, то здесь, увы, мне нечего сказать нового, кроме того, как признать Вашу правоту. «Кибериада» – произведение «искусственное» в том смысле, в котором мы понимаем слово «искусство» – и ни для оригинала, ни для перевода не может быть рецепта, т.е. теории, подобно тому, как и в легкой атлетике прыгает выше остальных вовсе не тот, кто усвоил теорию прыжков лучше прочих... Зато в деле «Дневника» мне хотелось бы с Вами поспорить – не столько ради добра книги, сколько ради добра истины. Книга эта куда более реалистическая по духу, чем думается Вам. Исходит она из версии государства, которую создал сталинизм, как, пожалуй, исторически первая разновидность формации, в которой существовала очень сильная вера в определенный Абсолют, да такой, что оказался полностью локализован в современности. Вы можете заметить, что логический анализ Евангелий выявляет разнообразные противоречия и даже явные нонсенсы, которые, нотабене, подтолкнули некоторых теологов к мысли о том, что Иисус был параноиком. Так, напр., проклятие фигового дерева ничем невозможно объяснить, поскольку можно отметить, что в момент, когда Иисус его проклинал, фиги вообще в Палестине не могли приносить плодов: не то время года! Стало быть, credenti non fit iniuria. Вера, кроме прочего, так себя проявляет, что всяческие prima facie антиномии или паралогии она переносит из графы «дебет» в графу «кредит».
Я должен подчеркнуть, что версия сталинизма, которую Оруэлл и его последователи распространили на Западе, является фальшивой рационализацией. Существенная для «1984» сцена – это та, в которой представитель власти говорит О’Брайену, что будущее – это образ человеческого лица, которое топчет сапог – вечно. Это – демонизм за десять грошей. Реальность была куда хуже, хотя бы потому, что она не была настолько отменно консеквентной. Была она, собственно, какой угодно, полной неряшливости, пустых трат, беспорядка, даже совершеннейшего хаоса и балагана – но все те позиции «дебет» вера переносила в графу «кредит». Пример, взятый из романа, – сцена, в которой герой истолковывает бородавки некоего старого кретина как знаки, свидетельствующие о всеведении Аппарата, распростирающего над ним власть. Если же хоть единожды решить, что это РЕАЛЬНО определенное совершенство, то после оное станут видеть всюду, и тогда балаган, бессмысленность, чепуха – все перестает быть собою, простым хаотическим коекакерством, становясь Тайной, Загадкой, тем, о чем вера говорит, что, дескать, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло – и потому мы не в состоянии этого понять. Так вот, именно эта вера, а не, там, пытки, приводила, напр., к тому, что в пресловутых процессах обвиняемые признавались в самых абсурдных преступлениях, что «шли на все» в одобрении тех обвинений. Пытки – пытками, но не каждого можно ими сломить, и мы, – что ж, мы ведь пережили немецкую оккупацию, – разбираемся в этом немного. Была то ситуация сражения с врагом, обладавшим гигантской силой, но которому можно было противопоставить внутренние ценности. А вот пред лицом Истории как злого Бога, как безапелляционного детерминизма процессов, никто не обладал своей правдой, поскольку никто ничего не мог противопоставить этой загадочной абсолютной силе – никаких ценностей более сильных, разве что оставался он персоной, глубоко верящей в трансцендентность. Но и тогда акт его веры должен был редуцироваться к внутреннему монологу или диалогу с предполагаемым Богом, поскольку веры этой невозможно было выразить никаким иным образом, и в частности по той простой причине, по которой «Дневник» утверждает, что акт провокации был неотличим от признания «кредо». Псевдотеологические академии, в которых учили вере и посвящали в священники – а все это происходило в категориях агентурной профилактики, т.е. инфильтрации клира воспитанниками таких «университетов», не является фантазией. Стало быть, это была абсолютная вера, которая возвышалась над любой персоной, невзирая на ее убеждения: такого Оруэлл попросту не в состоянии был понять или воплотить в романе – и тем самым высказать. Тотальность человеческого одиночества возникала из факта, что никто никому не мог доверять – в смысле трансцендентальном, т.е. типично теологически, а не в рамках прагматической социопсихологии и тех правил поведения, к которым приучаются, напр., шпионы, должные действовать на территории врага! Был это Абсолютный Миф, и когда он пал – то так же абсолютно, т.е. ничего после него не осталось, кроме удивления когдатошних верующих: как можно было верить в подобное параноидальное безумие? Таковы факты, а не фантастические вымыслы.
Смею сказать, что Кафка здесь – как отсылка – ничем не поможет. Он, все же, структуру юриспруденции в «Процессе» выдумал, был он юристом и хорошо знал, как действует измерение австро-венгерской справедливости, социальное измерение его не занимало, свободность общества во времена la belle époque позволяла ему этот маневр... и потому он использовал измерение юридическое, презрев социологическую рефлексию – а это тогда были области, разделенные очень отчетливо. А здесь мог бы еще пригодиться разве что Достоевский, поскольку только из него можно взять понимание, как это возможно, что кто-то, абсолютно ложно обвиненный, обвинение это принимал добровольно, никакой корысти с того наверняка не имея. Этот механизм с социопсихологическими характеристиками, который позволял творить такие чудеса, невозможно описать в двух словах. Рефлекторной мечтою гражданина сталинизма было стать никем, незаметным, т.е. получить серость никаковости, растворяющей его в толпе, и, казалось, что мог тебя спасти исключительно отказ от черт индивидуальности... Рефлекс этот был повсеместным, хотя не исходил из интеллектуальных размышлений. С этой точки зрения поясняется и некоторая никаковость моего героя. Он же хотел служить! Он хотел верить! Хотел делать все, что от него требовали, но смысл-то был в том, что на самом деле эта система не требовала того, что человек мог бы реализовывать каким-либо аутентичным образом. Очень прошу прочитать последнее предложение снова. Понимаете ли Вы его? Социальная действительность становилась настолько загадочной, настолько непрозрачной, настолько преисполненной тайн, что лишь акт воистину иррациональной веры мог еще ее собрать в единое целое и сделать сносной. Мол, есть какое-то объяснение, можно это каким-то образом рационализировать, да вот только для нас, маленьких людей, это откровение не доступно, мы к нему права не имеем. Итак, никакого объяснения не было, кроме прагматики чисто структурных связей и перерастания очередных исторических фаз нововозникшего социального устройства – в другие фазы, и движение это не было чьей-то персональной макиавеллиевской придумкой. Никто там не был эдаким злым Вельзевулом. В этом видении дьяволичности как главного условия и первого плана завязли, совершенно ложно, люди Запада типа Оруэлла, поскольку они пытались это себе рационализировать, но в том ракурсе ничего невозможно было рационализировать. Ну, это было так, как если бы некто желал уподобиться Иисусу, с утра до вечера тренируясь в хождении по водам, и удивлялся бы потом, что – вот, он все делает так уже 20 лет, но как ни ступит – так сразу и тонет. Требования были невозможны, поскольку невозможно было их истолковывать буквально, но при том надлежало их трактовать именно так. Отсюда все бессмыслицы у Оруэлла, поскольку он решил для себя, что все это возникало из дьявольской предумышленности. А никакой такой совершенной предумышленности быть просто-напросто не могло. Отсюда же и оппонирующие друг другу два отображения этой формации: как колосса на глиняных ногах, который развалится от малейшего колебания, и как совершеннейшего воплощения Истории – по сути, неизбежного, пусть бы даже и кошмарного; был это какой-то Ваал, абсолют, загадка, тайна, совершенно тленная, лишенная внеисторического смысла, но и исторического содержания ее невозможно было определить. Паралич веры, прошу пана, мифом, а не какие-то там козни маркизов де Садов, выполняющих функции следователей в аппарате политического преследования врагов общества. А поскольку невозможно было даже пытаться называть эти явления согласно терминологии, отличной от освященного канона, и поскольку социальный анализ таких явлений не мог даже быть начат, а тем более – проведен, загадка разрасталась – благодаря факту ее неназываемости и неприкосновенности. Роман, конечно же, метафора, модель такой реальности, а не ее фотографическое изображение, потому, что я не верю, что речь может идти об единственной возможности реализации именно таких условий и отношений, т.е. думаю, что это могло бы повториться и под другим небом.
А потому, если герой сталкивается со старыми кретинами при власти, влезает в тайные конференц-залы, видит план мобилизации, – то это не непоследовательность, но знак, что из чрезвычайно глупой коекаковости вырастает оная необычайная монолитность веры.
Впрочем, это может оказаться опыт, передать который невозможно. Я сижу здесь и пишу новую книгу, «Маску». А Вам желаю удачи – и не только в переводах моих книг...
Ваш,
Ст. Лем.
4
Краков, 15 мая 1974
Дорогой пан,
я получил остаток перевода, и вот мои замечания – по большей части критические.
Говоря «you are working miracles» в депеше, я и в мыслях не имел пустого комплимента – лишь то обстоятельство, что Вы и на самом деле совершили чудо – транссубстанции. Произведение делает вид, что действие его происходит в США, а стало быть его естественным языком является английский: потому и польская версия, и немецкий перевод могут звучать как переводы (как хорошие переводы, но как переводы). Чудо в том, что Вам удалось сделать произношение, словарный запас – совершенно достоверными, аутентично английскими, то есть, в некотором смысле Ваше задание было потяжелее моего. Там, где все было тяжелее всего – в неологизмах, в языковых оборотах, в придуманной идиоматике – Вам все удалось, и это чудо. Однако последний фрагмент вышел у Вас хуже – удивительное дело!
Отчего так? Текст с точки зрения модальности замышлялся как произведение музыкальное, где лейтмотив кошмара, трагизма, должный прозвучать фортиссимо в финале, ранее находит лишь слабое отображение: поскольку сперва доминирует юмор – как в содержании, так и в форме (а форма эта здесь – всего лишь лаконизм мемуаров, перенятый от Пеписа, неумышленно комическое «and so to bed», хотя буквальное «а после – спать» или «в кроватку» в тексте не присутствует). И вот, когда спадают последние завесы, и является нагое отвращение, говорит уже, собственно, не рассказчик, но через него говорю я, и тем самым изменяется стилистика повествования. Никаких стереотипов, господи боже, никакой поверхносности! «An outcast in the wilderness» – это, собственно, штамп, а «byłem już poza nawiasem zwidu, więc na pustyni» («я теперь вне иллюзии, а значит, в пустыне» (пер. К.Душенко)) – это не такое уж и клише, поскольку «poza nawiasem» (букв. «за рамками») – это идиома, а «poza nawiasem zwidu» (букв. «за рамками марева, призрачности») это идиома несколько провернутая и оживленная добавочным словом. «Ulica — to był kres» (букв. «Улица – это был предел») – значит «äusserste Grenze», как в немецкой версии, а не «barrier», поскольку улица здесь – просто последняя остановка Голгофы. Предел, как точка последнего достижения. «Zrobiło się jaśniej — biało» (Букв. «Стало светлее – бело» — в пер. К.Душенко: «В окне посветлело, побелело») – это предложение предполагает после «бело» точку, цезуру для отбивки, поскольку с этого момента говорится уже по-другому.
Одним словом, в этом последней части Вы словно бы несколько сфилонили, будто решив, что самое сложное уже осталось позади. И, несомненно, наитруднейшее Вы уже оставили позади, но и эта последняя часть требует особенного внимания, другого подхода. Падение и разложение Троттельрайнера не настолько уж, в Вашей версии, НАГЛЯДНО, так «бихевиористично», как на польском и на немецком. В финале слова должны обладать истинным, холодным, тяжелым, беспощадным весом. Зима, снег, призмы льда, все это требует такой презентации, как в натуралистическом произведении хорошего ремесленника от прозы из 19-го века. Я бы сказал, что Вы поспешили там, и потому-то, собственно, попадаются затертые обороты, что недопустимо! Под этим углом я попросил бы вас сравнить немецкий текст с польским, а потом со своим! Вы заметите разницу. Впрочем, я бы не хотел погружаться в подробности, за единственным исключением: «Mascons» для Тихо должно означать «mass concentrations», как в оригинале, шутка – которую Вы придумали – неуместна; не потому, что это плохая шутка, и не с точки зрения тактики – но стратегически: подобные места это отсылки к внефантастической реальности, к фактическим значениям, использованных с точно запланированным расчетом. Мне кажется, что в этом месте должно оставаться лишь сухое удивление Тихо, констатация, а не переход от одного неологизма к следующему. Это, вроде бы, мелочь, но тут я касаюсь момента, в котором мы порой расходимся. Смыслы, возникающие под пером локально, всегда должны подчиняться целостному подходу. Иначе слова «in der Begrenzung zeigt sich erst der Meister» не имели бы очень конкретного, очень ремесленного смысла. Тут я осмеливаюсь просить, чтобы для общего нашего добра Вы решились еще раз обдумать – под этим углом – последние страницы. (Последний разговор с Симингтоном и сам конец уже вновь без претензий – проблемы у меня исключительно с частью ОПИСАТЕЛЬНОЙ).
Что же касается сомнений в «macrotrash», то мне кажется, что звучит оно вполне хорошо, впрочем, как и немецкое «Allmist» — не настолько забавно, как «Wszechśmiot», но то, что Вы сделали, я считаю совершенно нормальным и не пробуждающим никаких оговорок. (Очевидно, очень хороши уже собственные Ваши вариации вокруг «отъязыковой футурологии»). Но я тут не собираюсь уже Вас хвалить, поскольку Вы и так знаете, что я думаю о Вашей работе. На самом деле, поправки и изменения, на каких бы я настаивал, исключительно мелкие. Тут точка, там изменение смысла слова «предел» в контексте описания улицы (предел, как я уже говорил, это не барьер), этого очень немного, но из таких микроскопических недоработок и возникает, собственно, некоторая слабость целого. Прошу попытаться, может, другие формулировки? Немецкая версия может Вам хорошенько послужить, поскольку она удивительно верная, т.е. по смыслам своим очень близка польскому варианту.
В любом случае, эта непростая штуковина Вами уже преодолена! Поправки, о каких я прошу, была бы, все же, лишь парой изменений, микроскопической ретушью. Кажется мне, что наши «расхождения» состоят в двух вещах. Primo, Вы порой полагаете, что нечто у меня сказано недостаточно отчетливо, и чтобы это «дошло» до читателя, Вы тогда стараетесь эти места усиливать. Secundo, определенные фрагменты кажутся Вам порой растянутыми, и Вы тогда стараетесь их уплотнить. Конечно же, дело всегда требует конкретного рассмотрения и in abstracto не может быть раз и навсегда решенным. Я лишь считаю, что Вы в некотором, чрезвычайно стратегическом смысле ОШИБАЕТЕСЬ. А именно, оба эти подхода, о которых я чуть выше упоминал, кажется, указывают на Ваше недоверие к читателям: не заметят! А значит усилить – или: им станет скучно! А значит сократить, сжать. Но так нельзя делать! Так никогда нельзя делать. Станет ли читатель ДОСТАТОЧНО СТАРАТЬСЯ – это совершенно НЕ НАШЕ ДЕЛО. Взятым по умолчанию, нерушимым, очевидным, жестким условием любого творчества является потребитель ОПТИМАЛЬНЫЙ, активный, одновременно УСТУПАЮЩИЙ тексту, то есть, ему доверяющий: если нечто слабо акцентировано, то значит, что оно ДОЛЖНО было быть таким, а если оно до нудности подробное, то, как видно, это свойство также принадлежало тексту, и следует в нем искать отдельного знака, смысла, указания. Одним словом, НИКАКИХ СКИДОК, никаких ОБЛЕГЧЕНИЙ, никакого СОДЕЙСТВИЯ ЧИТАТЕЛЮ (чтобы не оттолкнуть его, чтобы он не устал, чтобы не отказался). Прежде всего – такие старания все равно останутся безо всякого прагматического результата, поскольку ленивому все скучно и не интересно. Что важнее, для создания УДОБСТВА тогда можно пойти на ОБЛЕГЧЕНИЕ. Конечно, я поучаю Вас, и конечно не думаю здесь уже о «Конгрессе» или о переводе, и даже не о моих книжках, но о принципах. Я знаю, что Манна полагали в Америке «ponderous» и «pompous», однако это культурный пробел, а не личный недостаток Манна, в результате чего Манн «сокращенный для американцев» не будет ни хорошим Манном, ни хорошим писателем для американцев – но всего лишь препарированной примитивной «пищей». НЕ ОБЛЕГЧАТЬ! Вот правило, которого надлежит придерживаться, а все остальное – уже простое следствие.
Благодарю вас за все перенесенные мучения. Надеюсь, что они были полезны. А после этого-то «Бог простит» не остается мне ничего уже, как только весьма сердечно поклониться через океан.
Преданный Вам,
Ст. Лем.







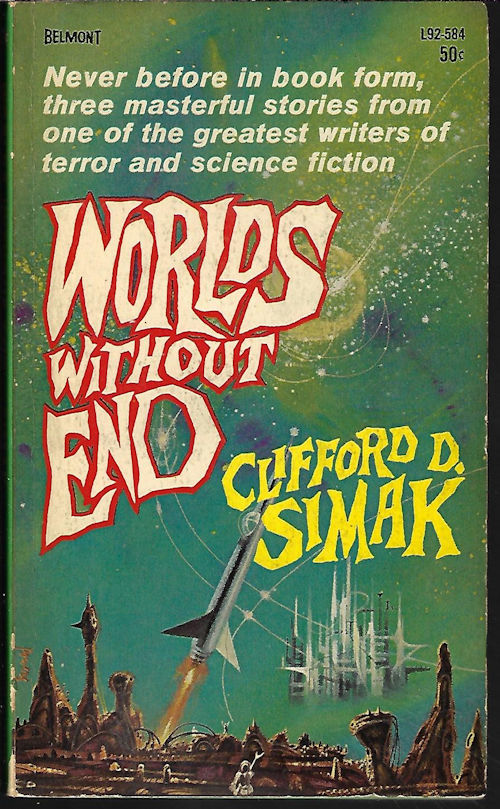







 ...еще бы на скидки какие попасть... :)
...еще бы на скидки какие попасть... :)

