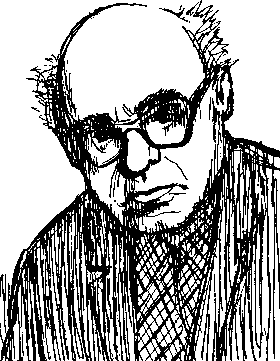ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. Геннадий Гор
© Леонид Рахманов
Ранней весной 1927 года я сдал в газету «Смена» свой первый рассказ. Поэты Михаил Голодный и Борис Лихарев, ведавшие литературной страницей этой молодежной ленинградской газеты, полуприняли, полуодобрили мою «Живую полянку», и я стал терпеливо ждать, не появится ли она в печати. Прошел месяц, другой, по воскресеньям в газете по-прежнему появлялись произведения молодых авторов; так, в мае был напечатан рассказ Г. Гора «Сапоги». Я никогда прежде не слышал такой фамилии, и потому очень внимательно прочел эту вещь. А прочтя, понял, почему не печатают мое сочинение: в нем и действия мало, и никакой неожиданной развязки; Гор состязался с самим О'Генри и даже упомянул его имя в тексте, а у меня в рассказе сплошные пейзажи, к тому же слишком чувствительные.
В конце июня весь первый курс Электротехнического института, где я учился, отправили на два месяца на военные сборы под Красное Село, и мне сперва было не до литературы. Но все же в одно из июльских воскресений я заглянул в палатку с походным Красным уголком, развернул «Смену» и увидал свой рассказ! На той же странице были шаржи на Лидию Сейфуллину и Николая Тихонова, статья Зелика Штейнмана, глава из поэмы Вл. Заводчикова (через два года я написал об этой поэме свирепую рецензию), но тогда ничего этого я не заметил. А радость от обнародования собственного рассказа омрачилась тем, что напечатали не второй, улучшенный его вариант, который я в свое время тоже представил в редакцию, а первый, как я считал, черновой, – почему-то именно он попал под руку составителям. Таково было самое первое мое литературное огорчение, проложившее путь всем последующим...
Тем не менее, с осени я опять принялся сочинять, написал рассказ «Обмылок», его приняли в журнале «Юный пролетарий», и я решил прочитать его на занятиях литературной группы «Смены», о существовании которой только что узнал. Она не была связана с газетой «Смена», если не считать, что там и тут был Борис Лихарев, когда-то учившийся в Москве в литературном институте имени Брюсова, где и познакомился с Михаилом Голодным.
Занятия «сменовцев» происходили в ту осень в Доме печати, на Фонтанке (второй дом от Невского). Придя туда в первый раз, я ничего своего не читал, только слушал и осматривался. Все говорили умно, интересно, особенно Гор, круглолицый, стриженый, но еще не лысый. О чем он в тот раз говорил? Кажется, с увлечением хвалил рассказ Николая Тихонова «Рискованный человек» (как я вскоре понял, ему всегда нравились произведения с эксцентрическим уклоном). Тоже хорошо, но немного пижонски и пуская слюнку в уголок рта, говорил Исай Рахманов (гость, а не член группы). Председательствовал, снисходительно усмехаясь, поэт Дмитрий Левоневский, раньше других начавший печататься в «Звезде». Это на него уже успел написать эпиграмму поэт-рабфаковец Леонид Равич:
Дай, Левоневский, мне ушко,
И я скажу тебе секрет:
Ах, у тебя растет брюшко,
Но не растет в тебе поэт.
Потом Равич чистосердечно признавался, что лучшее слово в эпиграмме – «Ах!» – принадлежит критику Зелику Штейнману... В 1928 году Равич переписывался с Маяковским и напечатался в «ЛЕФе».
Руководили литературной группой в ту пору двое: поэт Виссарион Саянов и критик, когда-то поэт, Валерий Друзин. С обоими я встречался потом в редакциях и в Союзе писателей не один десяток лет. Назову тех, кого я запомнил на первых занятиях, и с некоторыми из них подружился.
Семнадцатилетняя поэтесса Ольга Берггольц с необыкновенно нежным цветом лица и двумя золотистыми косами.
Ее муж – поэт Борис Корнилов, небольшого роста коренастый паренек с нависшей на лоб прядью. Брак их оказался недолгим: уже в 1929 году Корнилов вдруг попросил меня помочь ему найти отдельную комнату, а через год у него появилась Люся, молчаливая, очень красивая и по виду совсем девочка.
Раиса Мессер, жена Друзина, толстенькая, маленькая, но хорошенькая; критик и литературовед, она писала тогда о Брюсове.
Поэт Александр Гитович, приходивший в Дом печати всегда с ракеткой для настольного тенниса. В 1930 году я провел с ним месяц на Мурмане и посвятил ему рассказ «Купчиха Утиль», а он мне – стихотворение «Одинокое существование на острове Кильдине».
Маленький, остроумный Юлий Берзин, автор опубликованного уже отдельной книжкой романа о нэпмане – «Форд».
Поэт Илья Авраменко; помнится, я завидовал его необычайной способности двигать сразу всей кожей на голове! Постепенно он отрастил огромные усы и начальственность.
Петров, толстый блондин, автор рассказа, напечатанного в том же альманахе, где была помещена первая повесть Геннадия Гора «Пистолеты капитана Печонкина». (Петров чуть ли не единственный «сменовец», не ставший профессиональным литератором.)
Прозаик и поэт Виктор Виткович; псевдоним – Закоморный. Впоследствии он стал сценаристом, а в 1929 году написал вместе с Лихаревым пародийную поэму «Граф Нулин», посвятив ее почему-то мне. «Сказать ли вам, кто он таков, // Рахманов из чужих краев, // Где промотал он в вихре моды // Свои сектантские доходы». (Имелись в виду баптисты, изображенные в моей повести.) О самой повести говорилось так: «Не то Ромэн, не то Дельтей, // Не то Моран; роман отменный, // Но бессистемный и бестемный, // Без соблазнительных затей, // Без моряков и без детей»... (Намек на прозаиков-моряков Адама Дмитриева и Николая Мамина и на детского писателя Василия Белова.)
Назывались и характеризовались и другие «сменовцы»: «Погода становилась хуже, // Как будто Гор прийти хотел... // Вдруг колокольчик прозвенел. // Кто долго жил в глуши квартирной, // Друзья, тот верно знает сам, // Как даже умный, скучный Цырлин // Порой волнует сердце нам...». Второй герой поэмы, Друзин, говорил жене, вернувшись с охоты: «Раиса, там у огородов, // Мы затравили Тверяка». (Тверяк – известный в то время крестьянский писатель.) И наконец, последняя строчка поэмы: «Смеялся Цырлин, их сосед, // Философ двадцати трех лет»...
Лев Вениаминович Цырлин (именно этого возраста!) – литературовед в очках, суховатый, весьма интеллигентный и образованный (через несколько лет я горячо поспорил с некоторыми положениями в его книжке о Тынянове).
Его жена – Леля Златова, пока неизвестно что пишущая, но красивая и насмешливая, от улыбок и смеха на висках ее уже разбегались морщинки, – она была года на два старше меня. Ее отец был когда-то врачом в Давосе. (Место действия романа Томаса Манна «Волшебная гора».)
Опережая календарь, скажу, что с Цырлиным и Златовой скоро стал особенно часто встречаться. Не раз ночевал у них на улице Гоголя, где в той же квартире жили две «крузошки», племянницы пожилого еврея по фамилии Робинзон Крузо. Цырлины владели двумя комнатами – большой трехоконной залой и маленьким кабинетиком-спальней, откуда по вечерам беспокойно выбегал в залу Лев Вениаминович, если перед сном Леля здесь надолго задерживалась. Он прекрасно ко мне относился, но все же отчасти тревожился и выказывал недовольство, видя нас с Лелей сидящими на «моем» диване и мило беседующими на литературные темы. Однажды и я к ним пришел не на шутку взволнованный: был в кино «Пикадилли» (нынче «Аврора») на немецком фильме «Вторая жизнь», столь меня захватившем, что, уходя с последнего сеанса, оставил на соседнем пустом кресле рукопись своего «Племенного бога» (пока еще в единственном экземпляре!). Вспомнил, отойдя за квартал, опрометью кинулся назад и обнаружил рукопись уже у администратора...
Но вернусь к 1927 году. На втором или третьем занятии «Смены» я прочитал моим новым товарищам рассказ «Обмылок». Изругали его отменно, хотя в нем были, как кажется мне теперь, и недурные места, с настроением и вниканием в психологию героя. В основном бранили за стилевые излишества, за избыток сравнений и метафор. Об этом вечере вспоминал через сорок пять лет Геннадий Гор в статье «Романтик и реалист» (в «Неве») и в предисловии к моему однотомнику, выпущенному в 1972 году издательством «Художественная литература».
Зимой 1927/1928 года я посещал почти каждое занятие «Смены», если оно не совпадало с уроком русского языка и литературы, который я вел во 2-м полку связи, куда направил меня профком Электротехнического института. Я быстро сблизился с Геннадием Гором, жившим, как и я, на Васильевском острове: я на 4-й линии, ближе к Малому, Гор – на Среднем проспекте, между 7-й и 8-й линиями, по соседству с бывшим городским училищем, где в девятисотые годы был инспектором Федор Сологуб.
Кстати, будущая моя жена была тоже василеостровкой и знала Гора значительно раньше, чем я. Он учился в соседней школе, и нередко бывало, что в перемену или после уроков кто-нибудь из учеников громко возвещал:
– Завтра Гор придет на собрание! Гор!
И, действительно, на другой день в их школу приходил комсомолец Гор, в юнгштурмовке, с кожаной портупеей и пышными тогда еще волосами. Его слушали всегда с интересом, чувствуя, что это не просто красноречивый, но и чем-то особенный, одаренный юноша, и не ошиблись...
Вместе с тем, наши с ним литературные интересы и склонности с самого начала знакомства заметно рознились. Например, из всего обожаемого мною с детства Чехова Гор любил тогда лишь один рассказ – «Черный монах» (в Геннадии уже сказывался будущий фантаст!). К Бунину он был равнодушен, зато очень любил немецких экспрессионистов двадцатых годов – Мейринка, Эдшмида, а из французов – Жана Жионо и Дельтея, особенно его «Фарфоровую джонку».
Любопытно, что, почти всегда расходясь в литературных привязанностях, мы с Геннадием ни разу из-за этого не поссорились, а вот с Николаем Чуковским, как я уже вспоминал в «Сыне своего отца», разногласия порой доходили чуть не до полного разрыва... Дело в том, что Гор по натуре своей был так добр, что сердиться на него за что-либо было бы чудовищной нелепостью: он буквально обезоруживал всех своей незлобивостью. Тому можно бы привести множество примеров, в том числе и из области чисто житейской, – ограничусь двумя, тремя, по ходу воспоминаний, сейчас же снова скажу: Гор был сама доброта.
В 1930 году Гора призвали на военную службу, и он присылал мне из-под Архангельска жалостные письма: он совсем не умел ходить, а тем более бегать, на лыжах, – на Севере же это было основным занятием и спортом. Вскоре из его писем я узнал, что перед отъездом на Север Гор успел жениться, и теперь по его поручениям я не раз заходил к Наталье Акимовне, простой деревенской женщине, умной, доброй и хозяйственной. Зашел и за рукописью «Корова» – эту повесть Гор написал незадолго до армии и просил передать в «Издательство писателей в Ленинграде». Разумеется, я сразу же ее прочитал: это была очень левая – и по формальным, и по идейным признакам – повесть о раскулачивании. (Интересно бы перечитать ее сейчас, после «На Иртыше» Залыгина и «Канунов» Василия Белова.) Написана она была в свойственной тогда Гору абстрактной манере, кулаки изображены сатирично, но отвлеченно. Повесть эта заинтересовала консультанта издательства, критика и переводчика Давида Выгодского, равно как заинтересовал его и мой «Племенной бог». Договоров, правда, с нами пока не заключали, но ордера на получение бумаги для перепечатки рукописей вручили, и я пришел с этими двумя ордерами в канцелярский магазин на Старом Невском. Тут выяснилось, что бумагу дают только для сельскохозяйственной литературы. Для горовской «Коровы» бумагу выдали без затруднений, с моим же «Племенным богом» пришлось немного схитрить: я объяснил, что в ордер вкралась досадная описка, что на самом деле книга должна называться «Племенной бык», и мне поверили.
Несмотря на разницу в литпристрастиях, вкусах, сближало нас с Гором многое. Мы даже опубликовали под одной обложкой две наших повести – его «Факультет чудаков» и мою «Полнеба», написанные в 1928 году. Изданная в 1931 году «Молодой гвардией», эта книжка называлась «Студенческие повести». (Раньше наши повести были напечатаны врозь: «Полнеба» – в журнале «Звезда», 1930, № 2; «Факультет чудаков» – в альманахе «Звезды» в том же году.) И вот типичный пример доброты и великодушия Гора: он настоял, чтобы моя повесть шла в книжке первой, как и моя фамилия, хотя по алфавиту его фамилия должна бы идти впереди... Не так часто пишущая братия любит отступать на второй план, тем более в молодости!
Еще пример, из совсем других времен. В шестидесятые годы нам с Гором заказали статью о науке для альманаха «Наш Ленинград». Помню, в апрельский погожий день, когда мы вышли из университета, побывав там в нескольких лабораториях, по Университетской набережной (заглавие известного горовского романа!) валом валила студенческая молодежь, ликующе приветствуя первый космический полет Юрия Гагарина... В этот день мы собрали почти весь нужный нам материал, но написал на его основе статью, по сути, один Геннадий. А когда альманах вышел в свет, Гор настоял (зная, что у меня тогда было туго с финансами), чтобы гонорар был разделен пополам, причем, убеждая меня, напомнил о своем давнем «долге»: когда-то он потерял одну из самых любимых моих книг: «Записки Пиквикского клуба» Диккенса. Верно, потерял, но как и когда? При каких трагикомических обстоятельствах?
В начале 30-х годов Гор поехал в Москву повидаться с отцом, ветеринарным врачом, жившим постоянно в Сибири. Отец одарил его, вернее свою молодую невестку, всякими сибирскими шкурками и китайскими шелками, которые Гор уложил вместе со взятым у меня для чтения в дороге и в Москве «Пиквикским клубом» в большую прутяную корзину. Вернувшись темным осенним утром в Ленинград, он стал на Лиговке ждать трамвая, поставив перед собой, чтобы не украли, эту драгоценную кладь. Вдруг его сзади сильно толкнули, он упал, споткнувшись о свою корзину, а когда поднялся, корзины уже не было... Как видно, больше всего огорчила Гора пропажа моей книги, если он о ней вспомнил через тридцать лет!
Что говорить, все знали и чувствовали его доброту и сверхпорядочность. В середине 30-х годов Гор поселился с семьей уже из пяти человек в одной, но просторной комнате коммунальной квартиры на набережной Фонтанки. Надо ли объяснять, что такое коммуналка с ее обычаями и нравами? Но тут соседями оказались люди, сразу же оценившие Гора по достоинству. Достаточно сказать, что они продали мне, совершенно незнакомому им человеку, редкостный для тех лет материал на костюм, с рассрочкой на год, исключительно под ручательство Гора. Верно, не частый случай? Правда, чтобы ненароком не подвести Гора, я до выхода на экран «Депутата Балтики» не решился сшить костюм – добротный английский материал так и лежал у меня впрок, «на всякий случай»: а вдруг придется вернуть, если фильм не получится...
На Фонтанке у Горов я бывал не раз, вплоть до их переезда в так называемую «писательскую надстройку» на канале Грибоедова, где неожиданно освободился ряд квартир. Еще чаще к ним заходил Леонид Иванович Добычин, любивший рассказывать о том, как Гор работает: за одну руку дергает его пятилетний Юра, за другую – двухлетняя Лида, а он все пишет и пишет... Добычину, закоренелому холостяку, видеть это было не только курьезно, но, может, и завидно – отсюда гротескная зарисовка.
Гор вообще так привык жить в тесном семейном кругу, что в 1937 году, в сентябре, когда мы приехали с ним в Коктебель и я оказался сперва один в отведенной мне комнате (жена еще не вернулась из альпинистского похода), он попросился ко мне ночевать – одному ему было тоскливо. Вместе с тем, не привился ни к одной компании отдыхающих, редко купался, не катался на лодке, не ходил с нами в горы, – словом, не умел отдыхать. Правда, однажды отправился с нами, молодежью, и охотно примкнувшим к нам Борисом Андреевичем Лавреневым в Сердоликовую бухту. Погода была свежая, ветреная, надо было обойти скалу по узкой кромке (оплывать было трудно среди волн, угрожающе разбивавшихся о камни), Гор только начал «оползать» скалу, как сразу же разорвал об ее острые выступы рубаху, раскровянил бок и спину и вернулся обратно, чтобы подождать нас на мирном бережке.
Научился ли он когда-нибудь отдыхать – не знаю. По-моему, нет. Всегда читал книгу. Без книги я его не помню. Рассказывали, что в 1942 году, в эвакуации, в деревне Черной под Пермью, Гор, по поручению Натальи, пас поросенка, читая одновременно Гегеля. Поросенок пользовался тем, что внимание пастуха было отвлечено Гегелем, и убегал. Гору потом попадало от Натальи. И правильно: поросенок и Гегель – две вещи несовместные.
О философии Гор был готов говорить всегда. В 50-е годы, живя в Комарове, я повел известного московского писателя – палеонтолога и фантаста Ивана Антоновича Ефремова, в комаровский лес, чтобы показать ему здешние места и мою любимую «мохнатую дорожку». С нами пошел Гор, которого я только что познакомил с Ефремовым. Гор непрерывно говорил об искусстве, о философии, не давая нам ни минутки просто полюбоваться и насладиться природой...
Несмотря на то, что Гор был домоседом, он любил знакомиться с интересными людьми. На международном совещании по проблемам романа, проходившем в Ленинграде в 60-е годы с участием Натали Саррот, Сартра и других, в перерыве он оживленно беседовал с Натали Саррот, а на лестнице Дома писателей попросил меня познакомить его с А. Твардовским, который как раз поднимался навстречу нам. Я и сам-то был мало знаком с ним, но Гор так пылал этим желанием, что я представил его.
Как ни странно, мы с Гором всю жизнь были на «вы»; вначале я его звал – Гор, он меня – Рахманов, потом я его – Геннадий, а он меня почему-то – Леонид Николаевич! Вечером 12 марта 1968 года, когда в Доме писателя отмечалось мое шестидесятилетие, выйдя на эстраду и обнявшись со мной, Гор смущенно предложил, чтобы мы перешли на «ты», но из этого так ничего и не вышло: вот что значит привычка многих десятилетий!
Что же писал Гор в годы нашей долгой дружбы? Первая его отдельная книга – «Живопись» – состояла из небольших рассказов и отличалась не только поисками формы, но уже склонностью к философии, которой, как я сказал, он увлекался до конца своих дней, и знаний в этой области постепенно приобрел много. «Живопись» в 1933-м или 1934 году резко и несправедливо раскритиковал чудесный наш переводчик и интереснейший человек – Валентин Осипович Стенич. Почему он сделал это, причем явно без всякой корысти, страстно, искренне, я никогда не мог понять. Сколько было тогда плохих писателей – он же на них публично не ополчался! Может, напал на Гора именно потому, что видел немалое дарование, направленное не по тому пути? В той же газете «Литературный Ленинград» Гор несмело возражал Стеничу, но ничуть не каялся, а настаивал на своем праве искать и экспериментировать, что вполне потом оправдалось. Но тогда он так возлюбил западных «леваков», скажем, Кафку, Джойса (не зная их в оригинале, знакомясь лишь с пересказом их произведений в критической литературе или с отдельно переведенными отрывками – скажем, из того же «Улисса»), что одно время почти не замечал русских классиков, если не считать, разумеется, вечно любимого им Гоголя; настоящий кумир всей жизни Гора был рассказ Гоголя «Портрет».
Николай Чуковский когда-то сказал: «Начитанность Геннадия Гора напоминает костюм негра: крахмальный воротничок, галстук, манжеты – и ничего больше!». Со временем начитанность Гора неизмеримо выросла, но я всегда ценил эту злую шутку, пока не усомнился в ее оригинальности, прочтя в «Старой записной книжке» П. Вяземского: «Это дикая островитянка, которая является к нам голая, но с серьгами в ноздрях». Он сказал это о новейшей в его время романтической литературе.
С давних пор Гор начал коллекционировать картины. Он всегда любил живопись – недаром же его первая книжка так и называлась... Сначала он собирал работы лишь самых «левых» художников, чем немало гордился (даже не очень-то разбиравшаяся в изобразительном искусстве Наталья Акимовна любила говаривать: «Наши левые селедки лучше», – она имела в виду принадлежавший Геннадию натюрморт молодого художника Зеленина, сравнивая его с какой-то другой картиной из чужой коллекции). Потом Гор «поправел», поместил на почетное место работу даже такого заядлого реалиста, как Пахомов, которого после ленинградской блокады стал уважать и ценить. Но наибольшее его увлечение и заслуга – это открытие, еще в 30-е годы, талантливого северного художника Панкова (позднее он написал о нем книгу).
В своей литературной работе Гор вскоре набрел, и надолго, на близкие его сердцу темы: Север, Байкал, Баргузин, дед-перевозчик через сибирскую реку (Гор родился в Верхнеудинске, в Забайкалье) – и написал много рассказов и повестей о северных народностях, о звенящих ручьях (его любимый на всю жизнь образ). Успел до войны съездить на Алтай, на Сахалин, написать о Сахалине очерковую книгу.
Северные рассказы и повести Гора поэтичны и человечны – настоящая поэзия в прозе, как я писал в своей статье о его работе, но постепенно это стало угрожать однообразием. И уже после войны наступил новый, третий период его творчества, сугубо реалистический, появились повесть «Ошибка профессора Орочева» и роман «Университетская набережная». Книги эти широко издавались, охотно читались широким читателем, и вообще это было полезно для прозаика уже не первой молодости, полезно во всех смыслах, в том числе и материальном: именно в эти годы Горы построили для своей все увеличивавшейся семьи большую дачу. Но я бы не назвал эту полосу его литературной работы самой сильной и самобытной: Гор рисковал стать расхожим «беллетристом».
И вот наступил перелом – время, когда Гор решительно склонился к фантастике, точнее – к философской фантастике. С 1960 года он все увереннее стал одерживать здесь победу за победой и вошел в первый десяток советских писателей-фантастов. Лично я считаю его вообще лучшим автором этого жанра – по уму, образованности, таланту и присущей ему всегда оригинальности. Я недавно нашел у себя краткий отзыв Гора о рассказе «Мышонок», принадлежавшем перу начинающей писательницы: «Уже одна оригинальность темы, острота наблюдения выдают человека талантливого, независимо от того, хорошо или неважно пока ото написано. Плоскостность, невыразительность, ординарность содержания убедительно говорят, что перед нами неталантливый человек, хотя бы это и было старательно, порой даже тонко написано». Эти строки относятся к 1964 году, ко времени зрелого мастерства самого Гора, поэтому им особенно веришь.
Я нередко писал о его фантастике, писал в газетах, в так называемых внутренних издательских рецензиях – о повестях «Докучливый собеседник», «Странник и время», о романе «Изваяние». Решусь познакомить читателя с этим последним отзывом (в несколько сокращенном виде), но сперва приведу надпись на своей первой, подаренной Гору еще в нашей литературной юности книжке:
«Оба мы пробираемся к обезьяннику новых форм. Мой путь популярнее вашего. Я покупаю в кассе билет, стою в очереди, подкрепляя себя бутербродами. Вы перемахиваете через забор. Честь и хвала вам за это!»
Через тридцать лет я написал ему проще:
«Вы всю жизнь берете препятствия, в каждой своей новой книге. Но это давно уже но те привлекавшие нас когда-то замысловатые заборы. Болезнь роста прошла и, мне думается, ни в чем не нанесла урона Вашему таланту. Как и всякий художник, Вы преодолеваете подлинные, не искусственные препятствия, и решаете настоящие, не придуманные задачи... Это совсем не похоже на обезьянник – это человеческое искусство, и Вы владеете им совершеннее с каждой книгой. Вот за это Вам честь, хвала и спасибо!»
А вот что писал я в 1971 году об «Изваянии»:
«Проза Геннадия Гора поэтична не только по форме, по стилю, по настроению: Гор всегда побеждал там, где он отдавался поэтическому видению мира, будь этот мир Ленинградом, Дальним Востоком или выдуманной планетой, и подчас терпел поражение, пытаясь быть только бытовым беллетристом. Другое дело, когда срабатывал сам контраст между бытом и мечтами, сочетание привычного с необычным, реальной жизни с фантазией, – недаром Гор так часто вспоминает и упоминает (и в статьях и в рассказах) «Портрет» Гоголя и «Неведомый шедевр» Бальзака, эти любимые им образцы поэтической и философской прозы.
В новом романе Г. Гора главной героиней является как бы сама Поэзия, бессмертное поэтическое вдохновение, которое – по авторской формулировке – «может сокращать расстояние между мыслью и миром, превращая все виденное в поэму». Эта Поэзия вочеловечилась в женщине, которую зовут Офелией. Она с легкостью переносит героев романа из XXII века в 20-е годы нашего и 30-е годы прошлого столетия, из колчаковских застенков в Петроград, в Петербург, в таежный чум, на неизвестную планету и снова в Ленинград, в годы нэпа.
Как раз самое любопытное, неожиданное и смелое в этом талантливом романе это именно образ Офелии, Офелии Аполлоновны, как значится она в домовой книге обыкновенного жактовского дома на 5-й линии Васильевского острова. Офелия – не всесильный джинн из старинных восточных сказок, не святой дух и не языческая богиня, – это живая женщина, настолько живая, что она полнеет, худеет, капризничает, любит вкусно поесть и хорошо одеться, профессионально печатает на пишущей машинке, азартно ссорится с квартирными соседками, она взбалмошна, упряма, от обиды на мужа может выкинуть неожиданный вольт – начать ходить по дворам в рваном платье и петь никому не понятные скандинавские саги.
Повторяю, это живой человек и вместе с тем, несомненно, волшебница, это Муза времени, – не Машина времени, а именно Муза, творящая с людьми чудеса, какие возможны только в поэзии, только в сказке. Туманно? Не скрою, туманец в моем пересказе есть, как он есть и в романе Гора. Больше того, я уверен, что без некоторой размытости, нечеткости контуров этот роман не мог бы существовать – он просто-напросто потерял бы свою поэтичность.
Пожалуй, он потерял бы и реализм, ибо кто может сегодня сказать, что ему абсолютно ясно, как будут люди жить через два, три века, чем они еще овладеют, что будут знать, и самое главное – какой тогда будет их духовная и душевная сфера. Тот, кто сегодня железно сконструирует модель (любимое словечко кибернетиков и журналистов!) будущего общества и будущего человека, представляется мне вульгарным очковтирателем – в произведениях такого фантаста не будет ни поэзии, ни правды.
Геннадий Гор в своем новом романе почти не показывает нам далекого будущего общества, основное действие протекает в Ленинграде, и сдвиги происходят чаще в сторону прошлого. (Кстати, прекрасно написан эпизод с шаманом, который вырезает из полена идола, а затем решает сжечь его за беспомощность: почему не заступился, не покарал врагов!) Говоря о размытости, я имел в виду скорее мягкость изображения, благодаря которой читатель в иные моменты видит героев, события, обстановку как бы в дымке, выведенными из фокуса. В романе есть очень значительный и впечатляющий эпизод: земной герой попал в санаторий, находящийся на другой, неизвестной планете, человечество которой в результате термоядерной катастрофы стало бездетным; люди могут продлить свою жизнь, вернее, восстановить подобия самих себя, но потомства у них уже никогда не будет. Будь этот эпизод написан в резкой манере, он, наверное, выглядел бы излишне тематическим, публицистичным, а сейчас он лиричен и пронзительно грустен.
Но Гор не чурается гротескной резкости, когда это ему нужно. Так один эпизод происходит все же в будущем времени, в XXI веке, там очень смешно разговаривают местные специалисты, все как один с чеховскими бородками и в пенсне – социолог, техник, главный контролер...
После Офелии вторая главная удача в романе – художник М., всю жизнь малевавший эффектные, но банальные, по существу ремесленные пейзажи. Лишь перед смертью отдался он до конца своему призванию и таланту, и в результате явились на свет два-три настоящих шедевра. В изображении этого характера и этой судьбы Гору удалось соединить густой реализм, юмор, сатиру с лирическим и философским накалом – отсюда высокая человечность финала этой, казалось бы, столь заурядной и даже во многом пошловатой жизни. Уже позднее, через десятки страниц, я себя недоуменно спросил: как могло случиться, что одухотворенная, всепонимающая Офелия не почувствовала, не оценила гениальный порыв своего мужа, этого Василеостровского Тициана? И сам же себе ответил: очевидно, художник М. – настолько сочная, земная натура, что Офелия за время брака невольно погрязла в прозе его жизни!
Впрочем, такова парадоксальная двойственность природы Офелии. Забегая вперед, скажу, что одно из самых сильных мест романа – это гимн слову, который слагает Офелия. Это большой и словно бы самый бездейственный кусок текста, тем не менее, он производит гигантское впечатление, и это уже прямое воздействие откровенной поэзии.
В заключение скажу, что Гор этим романом завоевал новую высоту в том жанре, в котором он последние годы работает».
Мне особенно приятно было это сказать, потому что как раз в последние десятилетия мы с Геннадием сравнительно редко встречались. Не оттого, что охладели друг к другу, нет, просто, как это часто бывает в пожилом возрасте, не хватало времени для общения. Но даря нам с женой свою книжку о Константине Панкове, Гор написал:
«Дорогим Лене и Тане, самым старинным и самым любимым моим друзьям».
Когда-то у нас с Гором был один общий старинный друг – Люся, Евгений Глейбер. Глейбер жил рядом со мной, в соседнем доме № 47 по 4-й линии Васильевского острова, нигде не учился (в смысле высшей школы), но был начитан и образован, писал утонченные стихи и поэмы, которые нигде не печатал, и был для нас бесценным советчиком. Правда, его не удовлетворял мой переход от орнаментальной к суховатой прозе, и он настоятельно советовал учиться не у Стендаля и Мериме, а у Диккенса. Увы, мой любимый Диккенс был для меня как учитель недоступен...
Глейбер был женат на студентке, маленькой, худенькой русской женщине, у них был ребенок, дочка. Работа его о Миклухо-Маклае у меня сохранилась, равно как и огромный том сочинений Державина с размашистой Люсиной подписью на титульном листе. Погиб он в первую блокадную зиму, у него всегда было слабое здоровье; впрочем, блокада губила и крепких, здоровых людей. Нам с Геннадием очень недоставало потом Люси Глейбера.
Когда у Гора случился инфаркт (примерно в те самые годы), первое, что он мне сказал: «Как я рад, что это случилось со мной, а не с Натальей». Чистая правда! Кроме того, что он был к ней очень привязан, он был беспомощен без Натальи в быту, в повседневной жизни. Кроме того, – повторяю еще и еще раз, – он был сверхъестественно добр. Чего стоила его просьба к трехлетней внучке:
– Если ты хочешь плюнуть в бабушку, лучше плюнь в меня.
Наивность, бытовая его неопытность иногда поражала. Мы сидели однажды рядом на каком-то банкете в Доме писателя. Он налил себе в водочную рюмку лимонада, выпил и крякнул:
– О, винцо-то ничего! – вгляделся в этикетку на бутылке и тихо сказал, как бы извиняясь: – О, да это квас...
У Геннадия было двое детей – сын и дочь, много внуков и правнуков, и ему уже было трудно в этом тесном семейном кругу в маленькой квартирке в писательском доме на улице Ленина. Но получить квартиру побольше, а еще желаннее – отделить семью сына, он так и не успел.
В последние годы его томила депрессия, как и его Наталью, но непосредственной причиной смерти была гангрена, развившаяся в результате диабета. Отрезать ногу не решились – слабое сердце, лишние страдания. Болел он долго и необратимо – слабел, угасал. Последние дни был в сознании, говорил о литературных делах, попросил принести ему Пастернака, сравнивал два издания. Дочери Лиде сказал, что видит себя во сне – водой... Это было совсем в его духе: всю жизнь он писал о ручье, холодном, горячем, в тайге, в сопках, образ этот был для него самым родным!
Наталья лежала в это время в другой лечебнице. Так расстались они в конце жизни. На похороны ее привезли из больницы, и она, сидя у гроба, дремала. И это – всегда энергичная, рассудительная и обожавшая мужа Наталья! Горько было смотреть...
Умер Геннадий 5 января 1981 года, а узнал я о его смерти шестого, через два часа после того, как случайно нашел в своих бумагах литературную страницу газеты «Смена» пятидесятипятилетней давности, с рассказом, о котором я упоминал в начале воспоминаний. Рассказ Г. Гора «Сапоги» был напечатан в мае 1927 года, за месяц до моей «Живой полянки». Это была первая наша встреча, еще заочная. По-настоящему встречались мы затем более полувека...
Хоронили Гора 9 января. В двенадцать часов состоялась панихида в Доме писателя. Вел ее от имени секретариата Б. Н. Никольский. Первым выступил Д. Гранин, потом – С. Лурье и В. Адмони. Все говорили о доброте Гора, никто не запомнил его иным, а сейчас он лежал в гробу небывало строгий, худой, почти неузнаваемое лицо. На двух автобусах поехали в Комарово, где благодаря хлопотам А. Чепурова разрешили похоронить Гора, автора двух с половиной десятков книг, писателя с пятидесятипятилетним стажем...
Могила Геннадия Гора – возле могил Веры Кетлинской и актрисы Ирины Зарубиной, в очень хорошем месте. На кладбище в день похорон было чудесно: снег, снег, тишина. Провода над дорогами – в виде толстых снежных жердей, деревья – словно бы вылеплены целиком из снега. Я слышал, как две незнакомые пожилые женщины на кладбище позавидовали покойнику... Говорили над гробом Алексей Иванов от «Невы» – журнала, в котором до самой смерти Гор был членом редакционной коллегии, и незнакомая мне художница – о любви Гора к живописи.
Через год, 6 февраля 1982 года, на вечере памяти Геннадия Гора, я получил большую тетрадь стихов, написанных им в 1942 году, после блокадной ленинградской зимы, уже в деревне Черной. Ни до, ни после 1942 года он стихов не писал и никогда никому не говорил о написанных, а тогда вдруг прорвало... Разве это тоже не краска для его характера? Все, буквально все было у него не так, как у других литераторов. Начав как левак, как отвлеченный от окружавшей его жизни литературный экспериментатор (конец двадцатых, начало тридцатых годов), он вдруг стал автобиографичен (Байкал, Сибирь), домосед, «кабинетчик», он успел поездить по дальним окраинам (Дальний Восток, Сахалин, Алтай). Добившись успеха в типичной беллетристике («Ошибка профессора Орочева», «Университетская набережная»), он круто свернул к научной и философской фантастике. Даже музыка, которой, казалось, он раньше не интересовался, не бывал в Филармонии, в конце жизни обрела его интерес: покупал и слушал пластинки с симфонической музыкой... Очень жалею, что мы ни разу и не поговорили о музыке, которая так много для меня всегда значила.
На вечер памяти Геннадия Гора я на всякий случай взял с собой именно тот рассказ, что нашел за день до его смерти. Большинство выступавших на встрече были люди сравнительно молодые, знавшие уже пожилого и старого Гора. Почти все говорили о Геннадии Горе научном фантасте, философе, уснащая свою речь учеными терминами. А я решил прочесть вслух простенький его юношеский рассказ. И прочел, кратко объяснив причину... Кажется, никто из предыдущих ораторов не обиделся: наверно, сочли за мое чудачество!
В конце хочу привести несколько стихотворений, написанных Гором после первой блокадной зимы, которая явно сказалась на их содержании:
* * *
Невеста моя, поляна,
И яма, как рана моя.
Положат меня туда рано,
Невеста, поляна моя.
* * *
В душе моей уксус и тленье,
Тоска у виска и мороз,
И нет ни любви, ни терпенья,
И ветку мне ворон принес.
В душе моей дуб и осина,
И осень давно утекла,
И филин не плачет. И Нина
В могилу с сестренкой легла.
И филин не плачет. И эхо
Как сон и как крик, как прореха,
Как рана, как яма, как я.
* * *
Сезанн, с природы не слезая,
Дома и ветви свежевал.
Вот в озере с волны снял кожу,
И дуб тут, умирая, ожил.
Трава зеленая в слезах.
И в тополе большая рана
Кричала голосом барана.
С домов на камни боль текла,
И в окнах не было стекла,
А в рамах вечно ночь застряла,
И все как гром и как стрела.
Душа и человечье тело
И небо вдруг окаменело.
* * *
Ручей, уставши от речей,
Сказал воде, что он ничей.
Вода, уставшая молчать,
Вдруг снова начала кричать.
Вот этим его любимым до самой смерти ручьем я и закончу свои воспоминания.
Рис. Е. Алешиной / Нева (Л.). — 1984. — 6. — С. 110-117.
источник: