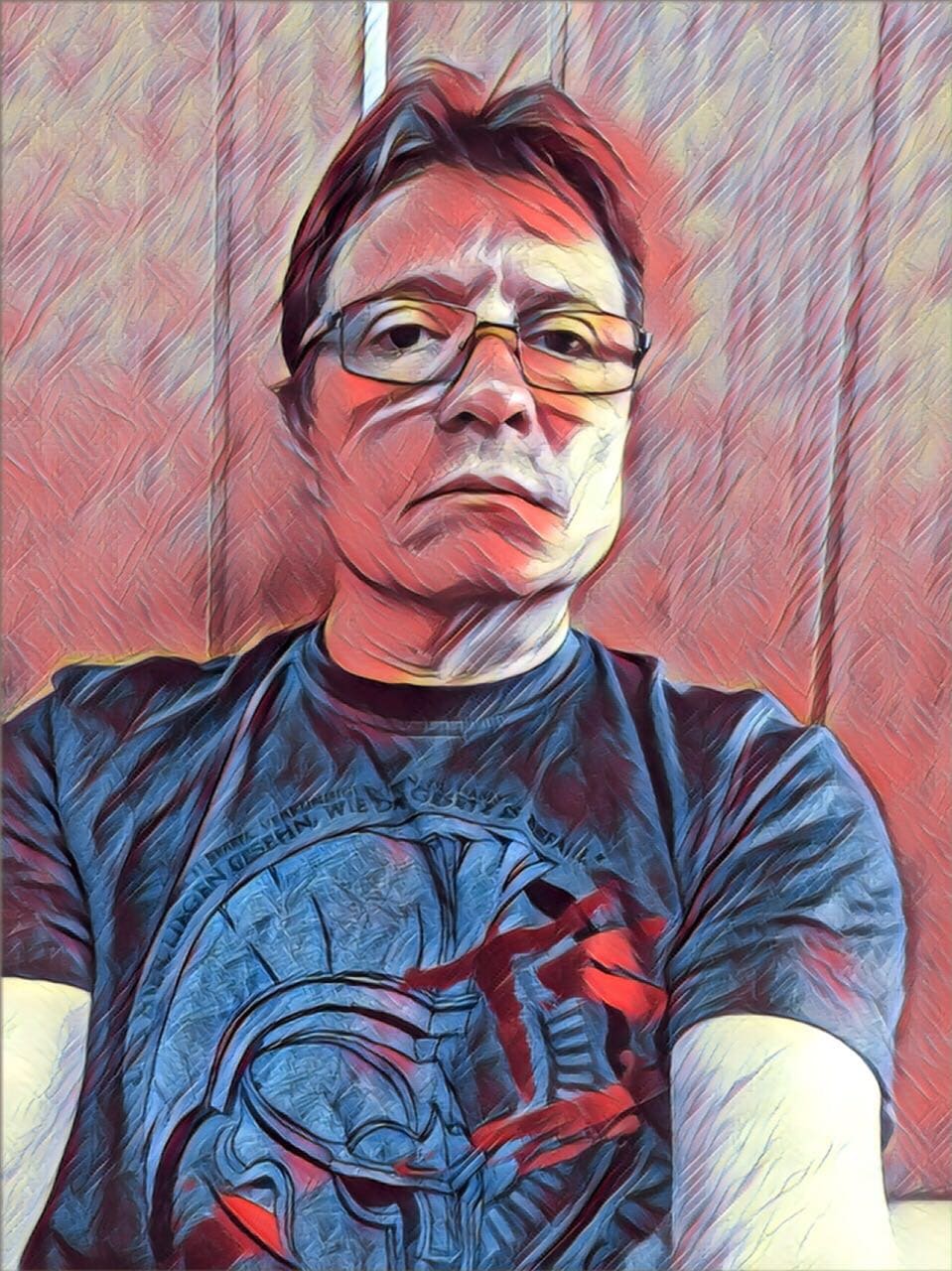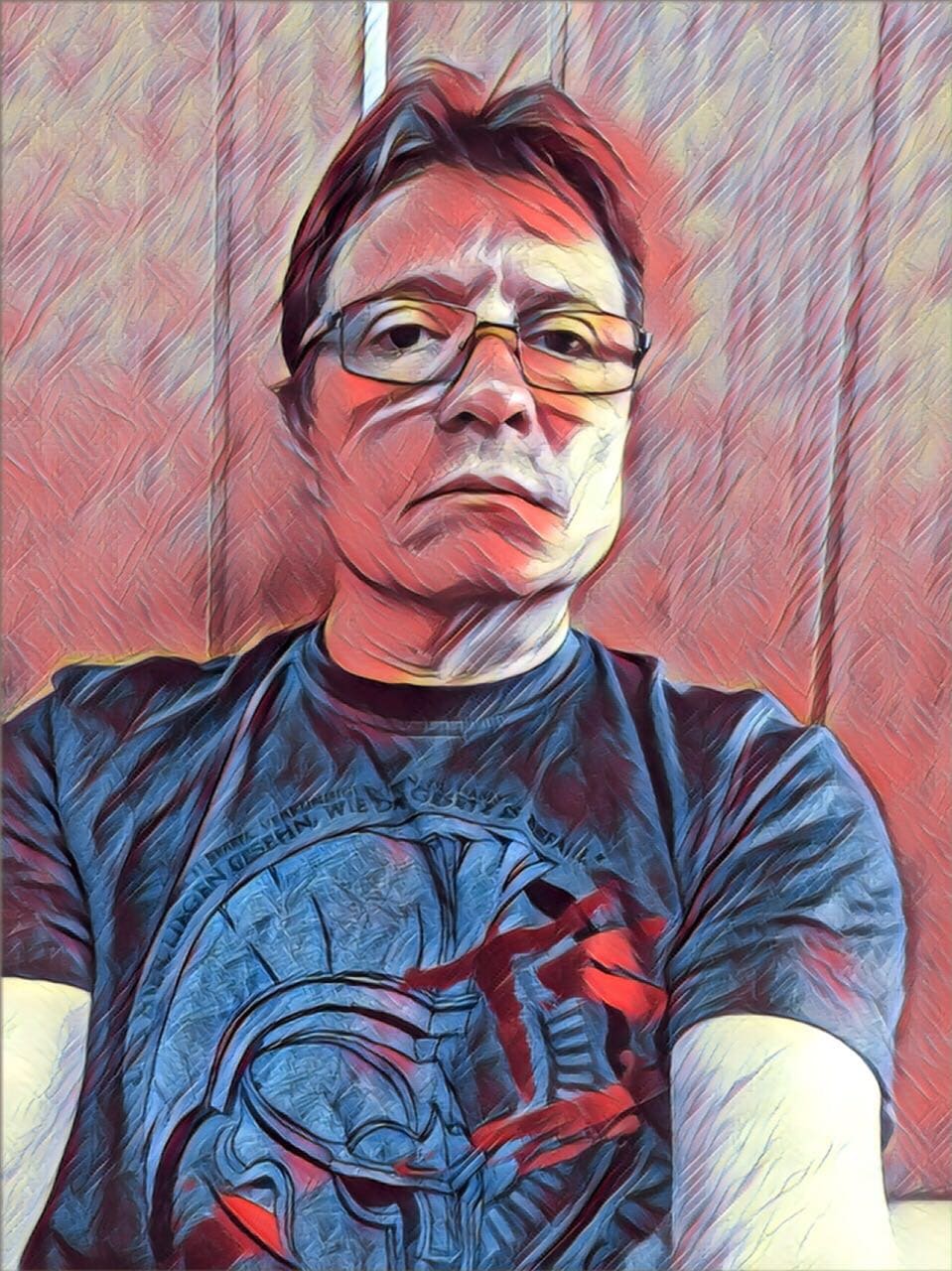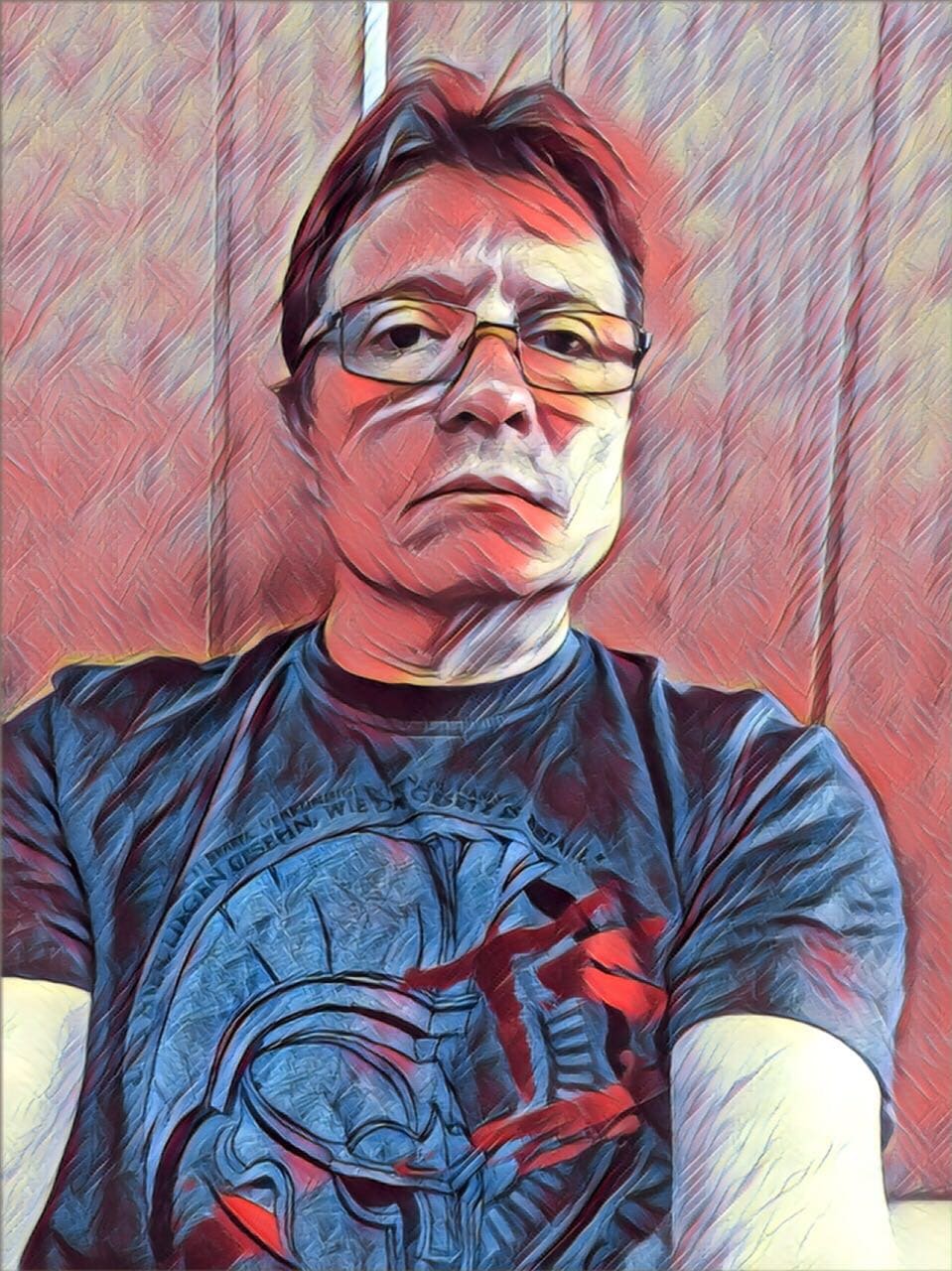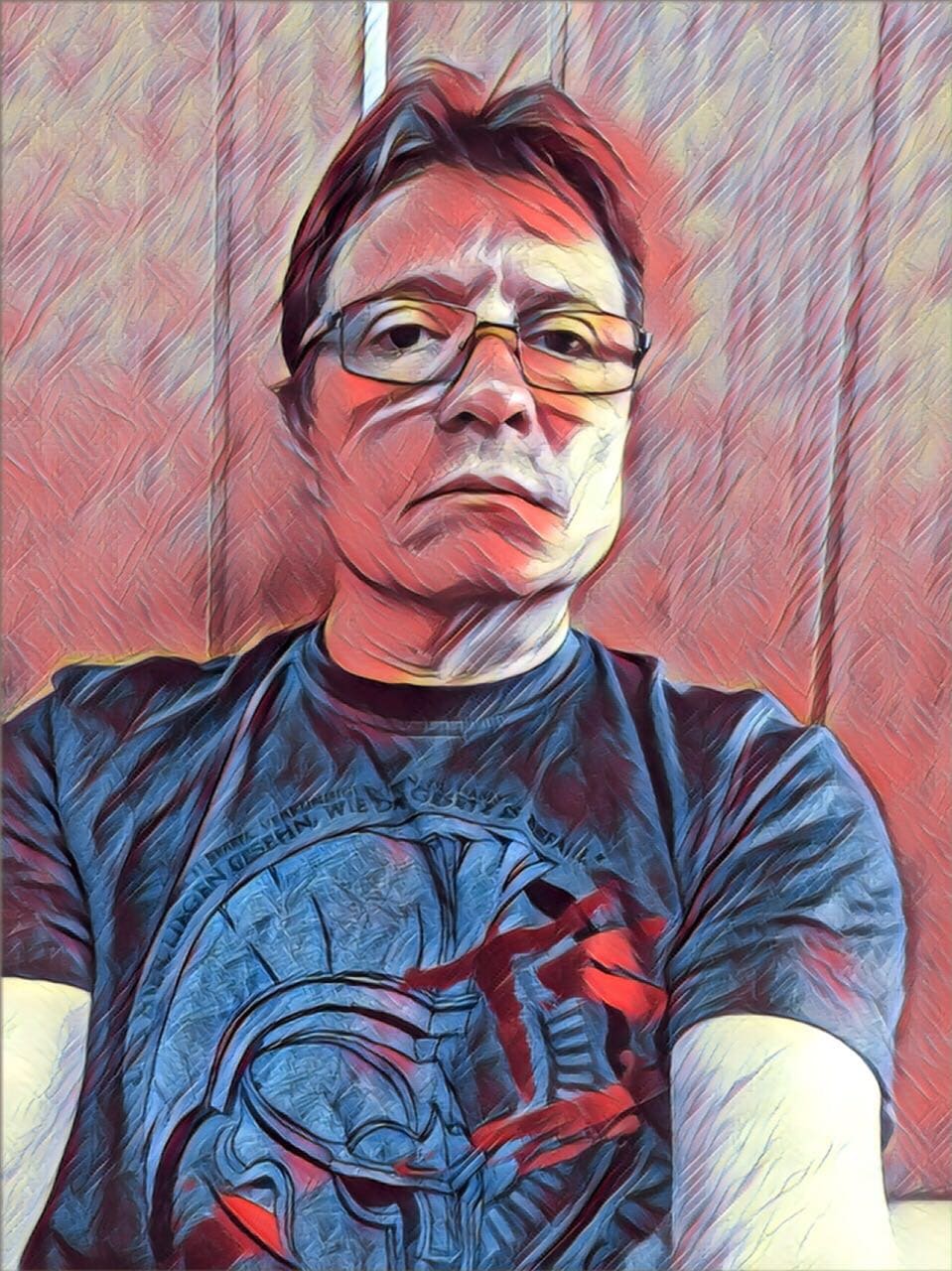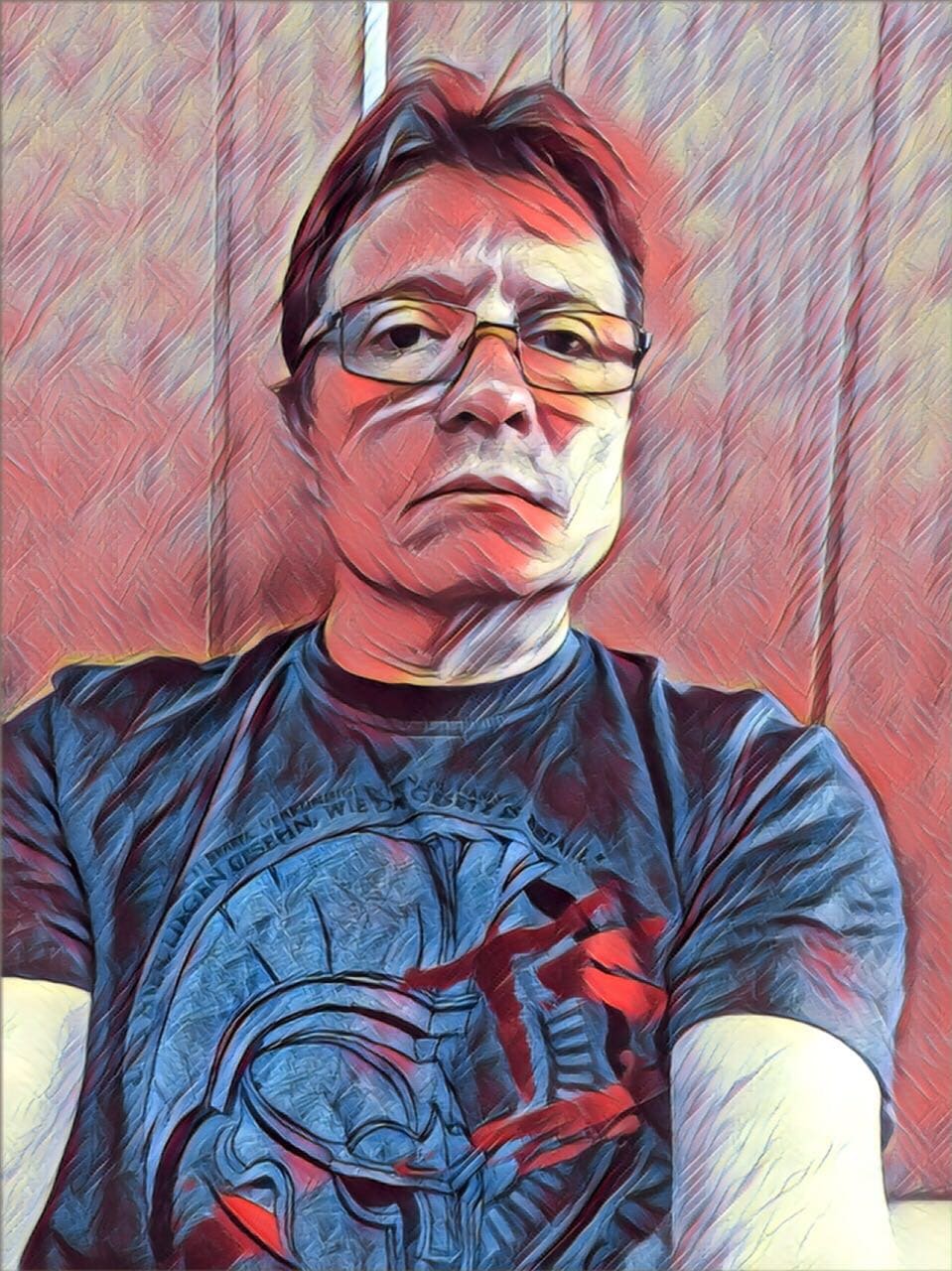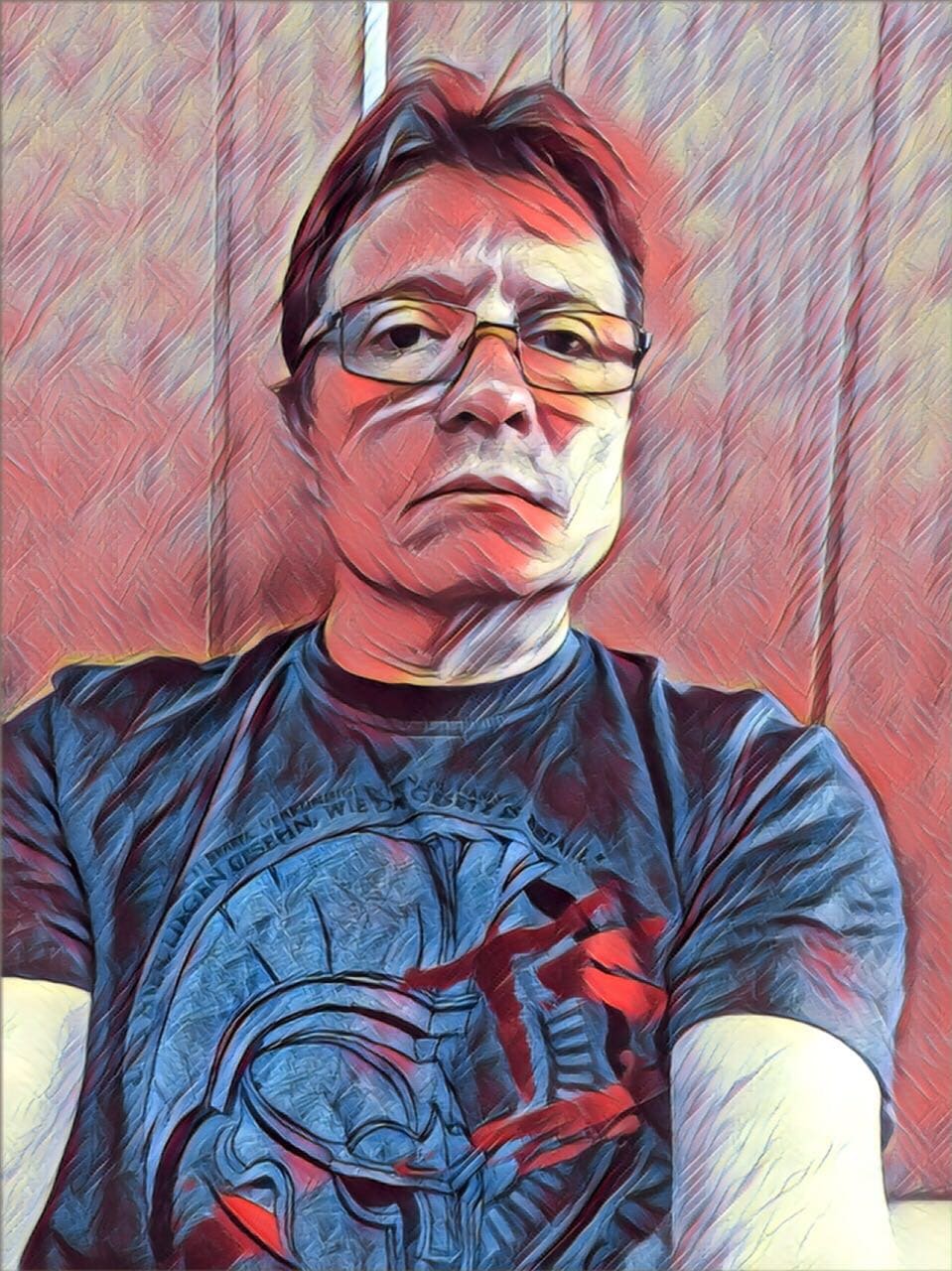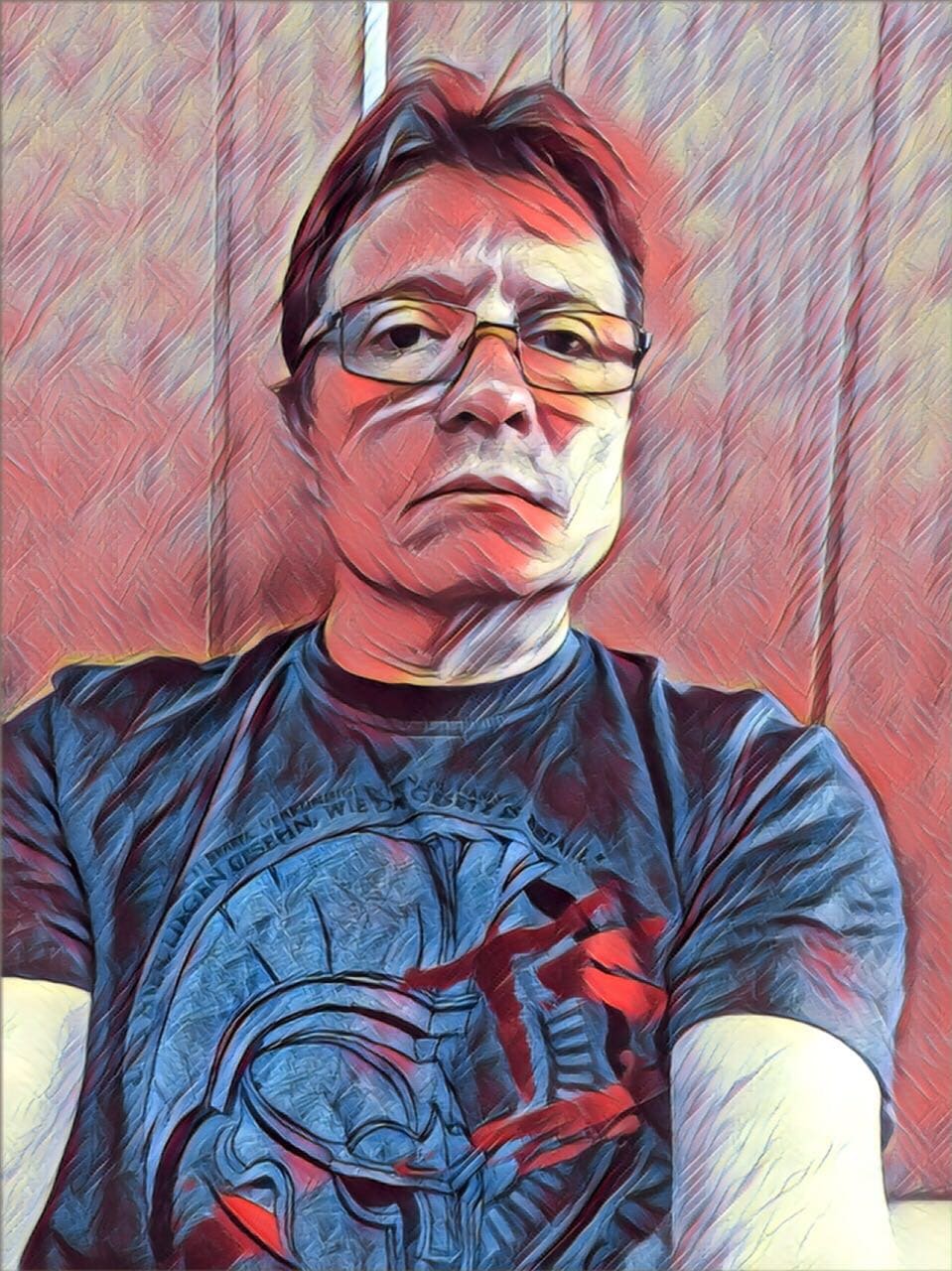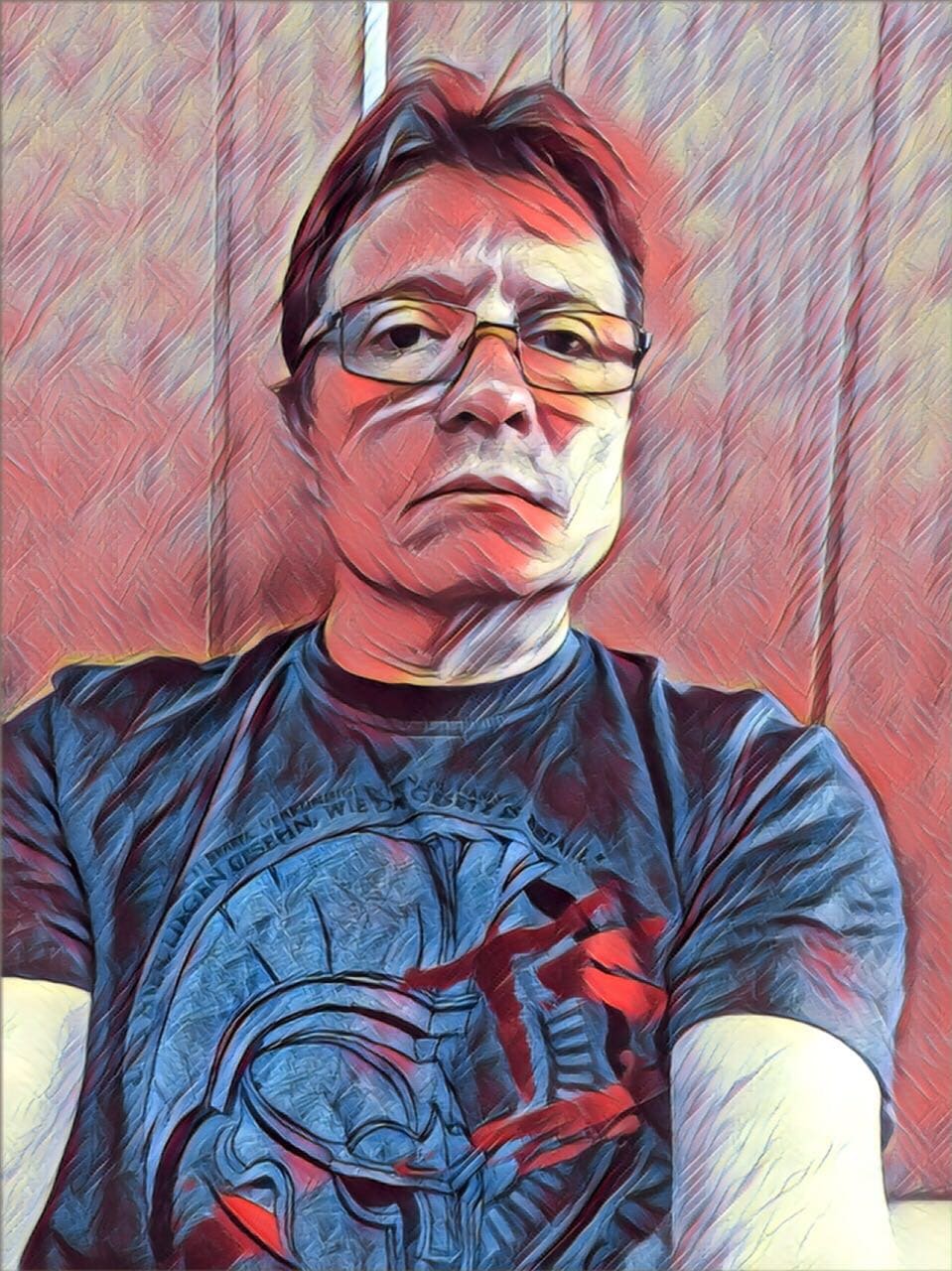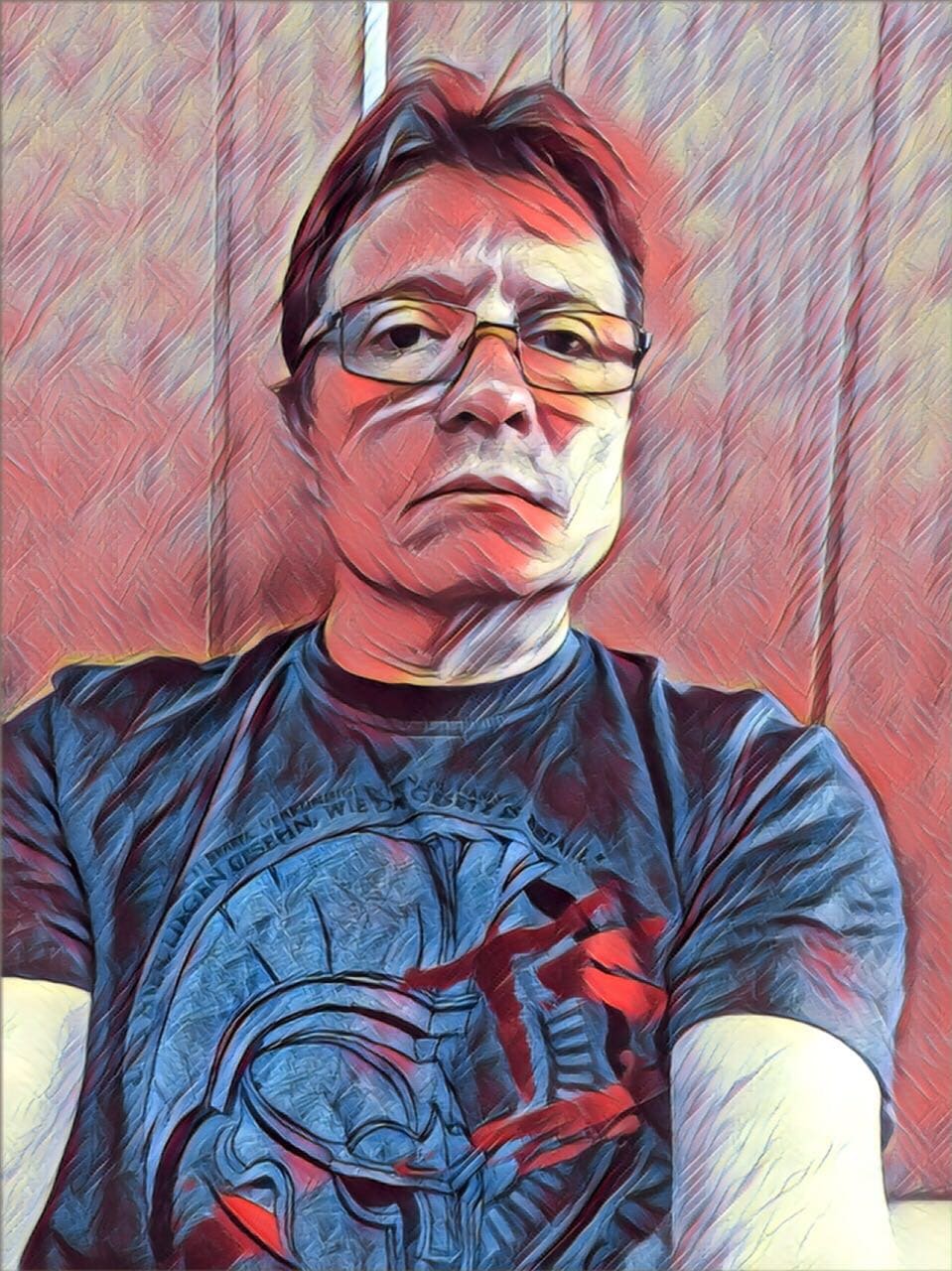|
Обозначение жизни, времени и локусов других людей как объективно и абсолютно экзотичных есть необыкновенный акт невинного высокомерия. Отчасти функцией стереотипов является определение групп посредством определения экзотического периметра, но вся идея абсолютной экзотики может быть оправдана только в том случае, если она самоочевидна: экзотика — это то, что находится вне меня и включает в себя все другие «я» и все, что я наблюдаю. Это предполагает идею о том, что с любой другой точки зрения я тоже экзотичен. На самом деле это делает просто экзотику неинтересной категорией, поскольку она ничего не говорит мне ни о себе, ни о других, кроме того, что действительно существуют «я», воспринимаемые другие. Напротив, очарование экзотическим Востоком, испытанное в Европе 18 и 19 веков, можно резюмировать следующим образом: Восток мог быть экзотикой только тогда, когда его наблюдал западный человек. То, что европейцы коллективно наблюдали, было, поэтому европейская точка зрения была объективным фактом. Из этого следовало, что ближневосточный человек был в корне порочным, потому что не мог рассматривать себя как экзотику. Однако экзотика была узаконена, потому что служила эмоциональным потребностям: как группировка Другого мира она помогала определить коллективный и мощный образ себя (Саид, Ориентализм 54); как средство тонкого очернения она помогла исправить коллективный комплекс неполноценности, восходящий к крестовым походам (аl-Azmeh 6); как идея, которой обладали только наблюдатели, она давала безопасный путь для увлечения, которое, в конце концов, стало очарованием самого себя. Путешествие, чтобы насладиться экзотикой, неизменно было путешествием самопознания (Кabbani 10-11), и эта категория выжила из-за функционального и самодовольного невежества. Европейская идентичность сохранялась и обеспечивалась дистанцией и отличием от избранного ею Другого мира. Только европеец, воспринимаемый как подозрительный и неадекватный (такой как Джейн Дигби) (*20 — Джейн Дигби (1807–1881) была одной из самых известных женщин викторианской эпохи. После нескольких громких браков, романов и разводов она уехала в Сирию в возрасте 46 лет, где вышла замуж за шейха Абдула Меджуэля эль-Месраба. Остаток своей жизни она провела в Сирии со своим мужем-бедуином, проводя шесть месяцев в году с племенем и шесть месяцев в их доме в Дамаске. Среди арабов ее помнили за ее дух и искусство верховой езды, и даже после ее смерти в Англии ее поносили (подробности взяты из книги Маргарет Шмидт « Дитя страсти: необыкновенная жизнь Джейн Дигби»)), мог ниспровергнуть или нарушить инаковость Другого мира, по-настоящему ознакомившись с ним. Считая, что потеря европейского «я» прямо пропорциональна тому, что вероятно, было бы степенью подлинного понимания, европейская литература сделала объектом Восток и принесла его осязаемо перед сознанием грамотных людей как предмет и как Другое. Это порождало ощущение тайны, которую в противном случае, возможно, не удалось бы найти. Восток стал захватывающе непознаваемым, когда систематизированное невежество вытеснило подлинный рост. Это замораживание категории экзотического, эта идея вечной инаковости, которая на самом деле «делала незнакомым» (*21 — Фраза, придуманная Манганьи (152). Каббани также обсуждает, как западное повествование о Востоке приводит к изгнанию последнего в «непоправимое состояние инаковости» (5-6). Норман Даниэль предполагает, что, превратив Восток в объект, европейская литература тем самым сделала его незнакомым (Islam, Europe and Empire 60-61, 481)), продлила очень приятное и функциональное неведение, прежде всего претендующее на знание. Это систематизированное невежество вмешивалось между опытом и переживающим и интерпретировало опыт, казалось бы, приемлемыми, значительными, знакомыми способами (Саид, Ориентализм 59). Индивидуум был исключен из обычной схемы реагирования на новое: индивидуальной ассимиляции, интерпретации и самомодификации (*22 — Ориентализм был исключительно мужским дискурсом. Мелман показывает, что женщины-ученые и путешественницы, будучи маргинальными в политической и академической среде, были в некоторой степени более индивидуальны и менее обусловлены в своих наблюдениях и взаимодействии с людьми (61-63)).
Ориентализм — это прежде всего точка зрения, ныне все более несостоятельная. Однако работы ориенталистов представляют собой здание, на котором покоятся современные исследования, и предательство одной точки зрения оставило ученых в сомнениях относительно обоснованности любой, будь то индивидуальная или общая, каждая из которых может рассматриваться как культурно предписанная в подозрительные способы. Это исследование не касается данной дилеммы. Здесь просто утверждается, что множественность точек зрения в данной культуре на другую желательна, в отличие от общего консенсуса, и что индивидуализация точки зрения зависит от индивидуального самоизменяющегося усилия понять. Наиболее желательна самомодификация до уровня знакомства, а не только знания, и в этот момент культурные различия перестают играть заметную роль: они отступают на задний план.
История «Ночей» тесно связана с этой парадигмой. Попытка перестроить индивидуальную реакцию на текст, познакомиться с ним на его собственных условиях приведет к тому, что он отделится от ошибочно простого культурного контекста и вновь возникнет как сложный культурно-исторический вымысел: средневековые литературы параллельны, но не идентичны проблемам западного самовосприятия последних трехсот лет.
Изучение «Ночей» как литературы и обзор их истории — сложная задача. Каббани вместе с другими предостерегает от того, чтобы видеть только то, что мы ожидаем увидеть (13, 25) и, хотя она не обсуждает «Ночи» в особенности, но продолжающаяся убедительность ориентализма в целом, это хорошая отправная точка. Предубеждение и точка зрения становятся гибкими и динамичными только в том случае, если читатель осознает ту роль, которую они играют в любой интерпретации. Искоренение фундаментальной формы предубеждений невозможно и даже редко необходимо. От читателя требуется критический подход к предвзятому суждению, более того, читательский опыт является саморефлексивным.
Термин «предубеждение» означает для наших целей то состояние, при котором предубеждение полностью диктует реакцию, фактически предвосхищает ее. Это состояние, при котором никакая модификация позиции не может произойти, когда субъект сталкивается с незнакомым, поскольку реакция предопределена из предписанной позиции. Предубеждение такого рода препятствует ознакомлению, поскольку в любом данном суждении всегда будет присутствовать образец «они» и «мы». В свете этого конкретного применения мы можем сказать, что практически вся реакция на «Ночи» была предвзятой. Идеальное чтение, побуждающее читателя к ознакомлению, характеризуется не отсутствием предвзятого груза, а сознанием предвзятости и намеренным сохранением гибкости: эта открытая критика должна поощрять самокритику одновременно с чтением этого текста.
Сам текст иногда способствует предвзятым ответам. Концентрические кольца их и нас-паттернов также представлены внутри субстанции, субстрата самого текста. «Ночи» можно использовать как источник аргументов за или против всего, что уже было. Использование их экстремистских аспектов, их анти или про составляющих, означает ограничение текста, поскольку он колеблется между всеми мыслимыми крайностями предрассудков. Как это ни парадоксально, это текст с открытым концом, поскольку многие его части составлены из самого удовлетворительного, самого закрытого и полного из жанров — рассказа. Однако по своей массе «Ночи» преодолевают замкнутость. Содержащие в себе множество функциональных элементов нарративной завершенности и исполнения всех желаний у читателя, содержащие основные функции развлечения, они остается, в итоге, текстом тематической незащищенности, вопрошания, проверки пределов социального восприятия, незавершенности. В «Ночах» отношение к женщинам, мужчинам, расе и особенно к основным категориям знакомого и чужого исследуется с необычайной сложностью. Именно на этом непростом пороге наиболее интересно.
Каждому писателю приходилось искать предлог, чтобы изучать «Ночи», поскольку они не были признаны в качестве литературы. Возможно, это потому, что они и не заслуживает признания в качестве литературы, но также ясно, что любое такое суждение всегда включало в себя гораздо больше, чем просто «объективную» оценку литературных достоинств. Во-первых, все понятие о западных литературных ценностях ставится под вопрос, когда оно применяется к заимствованному или иностранному тексту. Важно отметить, что если кажется, что преобладает неписаный запрет, препятствующий обсуждению текста как литературы, то не может быть никакого спора или диалога, определяющего его ценность по тому или иному стандарту. Можно возразить, что литературная ценность «Ночей» в глазах неарабов далеко не исчерпана, а является спором, который только начался в последние несколько десятилетий (*23 — Питер Хит отмечает, что «зрелое понимание «Ночей» находится только на начальной стадии» («Романс как жанр», I. 3), а Давид Пино отмечает значительный сдвиг в сторону литературного анализа за последние 2–3 десятилетия («Булак, Макнагтен и Новый Лейден, 125–26)). Самое большее, что мы можем сказать, это то, что он не был популярен якобы из-за своей литературной ценности, на самом деле он был популярен по всем причинам, кроме этой. То, что не обсуждалось, не может быть отброшено, но отсутствие обсуждения может означать отвержение. «Ночи» пребывали в подвешенном состоянии, не принадлежащем ни к западному, ни к восточному литературному канону, из-за запрета на изучение их самих по себе. Поколение за поколением были вынуждены искать относительно убедительные оправдания для легитимации изучения текста, который очаровывал и увлекал их непосредственным образом, и ни одно из оправданий не было достаточным, чтобы оправдать увлечение. Для Бертона это прежде всего текст, представляющий этнологический, антропологический интерес; это «истинно» в контексте этих полей. Последней причиной изучения «Ночей» является то, что Герхардт сосредоточилась на повествовании, которое было подхвачено и расширено Пино и многими другими за последние два десятилетия. Это важно, поскольку это движение постепенно утверждает «Ночи» как представителя своего собственного уникального жанра в английской литературе, и это отправная точка для отмены запрета. Больше нет необходимости приручать «Ночи», прежде чем настоящую любовь к ним можно будет выразить словами — определить, чтобы их было удобно читать. Пришло время взглянуть на текст, измененный сложной историей конфликта, на то, что он конструирует внутри себя, независимо от того, насколько неадекватны западные или восточные критики для этой задачи.
Среди переводчиков постоянно наблюдается тенденция как разграничивать границы тем текста, так и не допускать прямого взаимодействия с его многочисленными последствиями. Написание обширных примечаний, особенно в случае Лейна и Бертона, было еще одним актом перевода. Это явное отражение того факта, что в первые два столетия европейского интереса к «Ночам», текст жестикулировал в сторону несуществующего читателя. Внимательного слушателя, тесно связанного с фольклором, исламом, социальными условностями и анекдотами и правильно понимающего историческое происхождение историй, конечно же, нельзя было найти в викторианской Англии. Это не означает, что совершенно незнакомый читатель не может читать, а скорее то, что такой читатель будет читать совсем по-другому, поскольку он или она освобождается от предубеждений текста. Кроме того, читатель каждого из последних трех столетий имеет привычные предрассудки, характерные для культуры и класса (если говорить сильно упрощено). В чужом тексте они просто не будут учитываться и, как правило, станут в какой-то степени неуместными или неадекватными для задачи интерпретации. Попытки переводчиков контролировать или направлять реакцию читателя представляют собой некоторые варианты выбора. Однако, когда текст предполагает предубеждения, которых у читателя нет, и ожидает незнакомых читателей, мы оказываемся на пороге интерпретации, которая ощутимо течет в обе стороны — текст и читатель находятся на грани изменения при любой попытке ознакомления. Оставаться неизменным и ограничивать текст тем, что раскрывает его фон (в данном случае «нравами и обычаями» и т. д.), или выделять категорию того, что по определению преходяще (экзотичность, зависящая от непривычности), — это всего лишь первые инстинктивные реакции на противостояние чужого текста и читателя. Дезориентация как начальная позиция может быть ценной, а столкновение непоследовательных или смещенных предубеждений может быть самоизменяющимся. Чуткий читатель «Ночей» претерпевает изменение точки зрения или себя (иногда и то и другое в практических целях) не потому, что текст всегда представляет собой очаровательно великое искусство, а потому, что его всеобъемлющий охват создает впечатление знакомства, которое не обязательно отражает простое знание, но участие в вымышленном мире, обеспечиваемом событиями, предысторией и предположениями сказок, и в этой текучей вымышленной реальности убежденный читатель гораздо более восприимчив к очаровательным моментам. Широта «Ночей» предлагает возможность насыщения в мире, функционирующем подобно, но в гораздо большем масштабе, чем мир основных произведений Толкина (*24 — Сравнение с фэнтези Толкина предлагает Э. М. Сиссонс (13)). Исторически, конечно, это предложение не часто принималось. Главной потребностью читателя является не руководство, предоставленное Лейном, Бертоном и другими, которые мгновенно переориентируют первые впечатления в соответствии с уже известными социальными нравами, а скорее подтверждение правомерности читательской позиции сомнения и дезориентации. Читатель должен иметь возможность свободно интерпретировать внутреннюю информацию сказок, чтобы приблизиться к приостановке толкования, специфичного для культуры. Это должно беллетризовать как читателя, так и текст. Текст, возникающий из этой смещенной среды, по существу является вымышленным, воссозданным, лишенным своей реальной культурной и исторической реальности, в то время как читатель в этом отношении является творцом себя и мира, а результирующая точка зрения или самость является вымышленной в том смысле, что она глубоко сокровенна, взаимосвязана с экстраполяцией того, что уже является вымыслом, утонченным приближением к выходу за пределы жестко предписанной сущности культурно-специфического «я». Это не означает, что нам вообще не нужна информация. Мы получаем необходимую информацию, чтобы получить доступ к чосеровской поэзии, мы приобретаем много эзотерических знаний, чтобы получить доступ к модернистской поэзии, но мы никогда не путаем информацию с содержанием, что является общей ошибкой подходов к «Ночам». Эта ошибка является просто результатом возврата к простейшей интерпретационной позиции в отсутствие ощущения какой-либо знакомой почвы.
Читатель должен подходить к чужому тексту с тем же доверием, что и к совсем новой литературе: то есть с твердой верой в то, что есть что-то, неважно насколько новое, что делает его достойным изучения как литературы, даже если это означает изменение определения. Любое суждение об обратном может быть обоснованно вынесено только после такой попытки. Чтобы «Ночи» вообще можно было изучать, кажется очевидным, что их нужно изучать больше. По-прежнему необходимо, чтобы каждое исследование «Ночей» содержало в себе справочную информацию, необходимую для того, чтобы поместить читателя в контекст. Неоднородность текста или текстов, хотя и является наиболее заметной чертой, может не быть самоочевидным фактом для неспециалистов, в то время как важность его исторического и временного диапазона при любом чтении и его сопротивление общему определению не могут быть очевидными, если оставить его неисследованным. Соответственно, в следующих двух главах будет изложена история арабского текста и история перевода «Ночей» на английский язык в качестве основы для анализа конкретных сказок во второй половине книги. В четвертой главе исследуются некоторые сложности читательской точки зрения в истории восприятия составного текста, а также рассматриваются некоторые стратегии чтения при столкновении с кросс-культурным контекстом. Пятая и шестая главы предлагают новое прочтение сказок. «Рамочная» история обсуждается в пятой главе, где сравниваются и противопоставляются текстовые и традиционные европейские интерпретации, а в шестой главе демонстрируются возможности текстового чтения с анализом выборки из пяти сказок.
|