Джин Вулф, Покой (1975)

Обложка от нового издания с послесловием Геймана.
***
Из всех ныне живущих англоязычных писателей Вулф более всего достоин сравнения с Фолкнером. Сходное по остроте и послевкусию чувство увязания в тексте у меня было в двух случаях — при чтении Если не забуду тебя, о Иерусалим! и Шума и ярости.
Если вам нравится Фолкнер, то понравится и эта книжка, а если вы терпеть не можете постмодерн и игры с читателем, то за нее не стоит даже браться. Склонность к эксперименту долго ограничивала тиражи и популярность Фолкнера, пока ему не выдали Нобелевскую премию. Вулф же своей Нобелевки, боюсь, не дождется и встанет в один ряд с такими достойными парнями, как Набоков, Павич и Малкольм Брэдбери. Правда, своя минута славы, после которой он может уже писать о чем хочет и как хочет (и, что характерно, пишет!), у Вулфа тоже была — когда вышел в свет первый роман цикла о Северьяне.
Но Покой написан гораздо раньше, когда основным источником, поставлявшим Вулфу средства к существованию, был средней руки технический журнальчик, редактором которого Джин числился. И поэтому, вероятно, остается недооцененным по сей день. Этот роман не переведен на русский, что, в общем, типично для книг такой внутренней сложности (в том же 1975-м году, между прочим, вышел Далгрен Сэмюэля Дилени, исполненный в сходной технике письма и также не завоевавший никаких премий). Чтобы распутать всю сеть аллюзий и межтекстуальных пасхалок, завязанную автором, требуется специалист сопоставимого с ним культурного уровня. (Здесь слово культурный можно не писать с большой буквы К, поскольку Покой — не совсем фантастика. Не научная фантастика, если точнее.)
Вулф весьма религиозный человек. К счастью, это обстоятельство никогда не имело столь разрушительных последствий для качества его работ, как, например, в случае Клайва Стейплза Льюиса. Но все же христианский морализм присутствует почти во всех произведениях Вулфа, хотя не прочь он поиграться и с более архаичными мифорелигиозными системами. Если читать его, помня об этом, многие загадки снимаются. Есть у Вулфа и фирменные «фишки»: чуть ли не в каждой книге раннего периода (до Книг Нового Солнца) он так забавляется с ономастикой, что о происхождении и потаенных смыслах имен героев можно писать отдельные статьи и трактаты.
Вот и в Покое, стоит назвать вслух имя (недостоверного) рассказчика — Олден Деннис Вер (Alden Dennis Weer) — почти сразу эхом откликнется недостающее... wolf.
Вервольф. Волк-оборотень. Это первый ключ к разгадке истинной сути сбивчивых откровений маразматика, на пороге (на самом ли пороге?) царства теней пытающегося подвести какой-никакой итог в общем довольно бессмысленной жизни. Поток сознания в Покое мутен и зловонен. Тут и намеки на сексуальные извращения, и алхимия с эзотерикой, и странный дядюшка-конфидент Юлиус Смарт (нехитрая манифестация Доктора Ф., причем не столько в трактовке Иоганна Wolfганга Гёте, сколько в версии Томаса Манна — помните болезнь Адриена Леверкюна?)...
Не стал бы, кстати, относить Покой к самостоятельным романам. Он образует эдакую неформальную дилогию с Пятой головой Цербера. Все характерные геометки тут расставлены:
странная генеалогия Вера, его (истинное?) имя — никто не обязывает нас считать, будто он вполне откровенен, сообщая данные о себе, к тому же dennis — это зеркальное sinned, «согрешивший, греховный»; его тетя Оливия (сокращенно Ви — то есть Vi, а v + i = как известно, vi, вот вам и шестая голова), с которой у него что-то вроде инцеста, по крайней мере метафизического; вещие сны; психологические-не-то-биологические эксперименты; даже собака в саду родного дома, по обветшалым комнатам и вдоль облезлых стен которого бродит Вер то ли в воспоминаниях, то ли наяву, то ли в тюрьме, то ли на воле.
Все это обильно прослоено вставными историями, в лаконичности и изяществе достойными новеллы Павича о Павле Грубаче.
Ни на секунду нельзя ослаблять внимание, пытаясь уразуметь, что же тут в книжке происходит и о чем на самом деле рассказывает (пытается рассказать? утаивает?) A. D. Weer в году (1975-м?) A. D. (из текста можно вывести по крайней мере две противоречащие друг другу хронологии событий).
Концовка же (тем паче если сопоставить ее с первой фразой об упавшем дереве) создает эффект пробуждения от медикаментозного сна — для нового, более глубокого.
Правда, как установил Павич девятью годами позже, «смерть — это однофамилец сна, только фамилия эта нам неизвестна».





 Только дождёмся ли?..
Только дождёмся ли?.. 
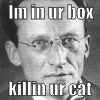



 В целом — спасибо за очередную отличную рецензию!
В целом — спасибо за очередную отличную рецензию! 
 Впрочем, если Вэнс проживет еще лет 10, то искусственные сетчатки разовьются до уровня, позволяющего заменить утраченную функциональность практически полностью.
Впрочем, если Вэнс проживет еще лет 10, то искусственные сетчатки разовьются до уровня, позволяющего заменить утраченную функциональность практически полностью.