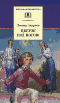Леонид Андреев «Рассказ о семи повешенных»
- Жанры/поджанры: Реализм
- Общие характеристики: Психологическое | Философское | Социальное
- Место действия: Наш мир (Земля) (Россия/СССР/Русь )
- Время действия: 20 век
- Линейность сюжета: Линейный с экскурсами
- Возраст читателя: Для взрослых
Семь разных людей. Семь разных характеров. Но всех их ждет один и тот же исход...
Входит в:
— антологию «Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник». Книга 5», 1908 г.
— журнал «Новое слово 1909`2», 1909 г.
— журнал «Подвиг 1988'04», 1988 г.
Рецензии:
— «Рассказ о семи повешенных», 1908 г. // автор: Дмитрий Философов
Похожие произведения:
- /период:
- 1900-е (10), 1910-е (3), 1950-е (2), 1960-е (1), 1970-е (7), 1980-е (10), 1990-е (3), 2000-е (13), 2010-е (26), 2020-е (2)
- /языки:
- русский (78)
Периодика:
Аудиокниги:
страница всех изданий (78 шт.) >>
Отзывы читателей
Рейтинг отзыва
![]() Тиань, 25 сентября 2015 г.
Тиань, 25 сентября 2015 г.
Это одна из тех вещей, которые потрясают душу.
Волшебник из фильма «Обыкновенное чудо» восклицал: «Слава безумцам! Которые живут себе, как будто они бессмертны». Леонид Андреев в своей повести показывает, что только так и может жить человек. Если у человека отнимают ощущение бессмертия, он стремительно приближается к грани безумия.
На примере семи очень разных людей, приговоренных к смерти, мы видим отчаянный протест разума и тела живого существа против перехода в небытие. Как только человек осознает, что ему предстоит умереть — не когда-нибудь гипотетически в будущем — а здесь, сейчас, очень скоро, от конкретной причины, разум необратимо фиксируется на этой мысли, не в силах в полной мере охватить и принять ее, но и отодвинуть на второй план тоже уже не в силах.
«Смерти еще нет, но нет уже и жизни, а есть что-то новое, поразительно непонятное, и не то совсем лишенное смысла, не то имеющее смысл, но такой глубокий, таинственный и нечеловеческий, что открыть его невозможно», — так характеризует это состояние один из семи.
Осознание неизбежности смерти обессмысливает жизнь, поскольку человеческий разум не в силах проникнуться глубинным смыслом данного действа, когда речь идет о себе самом. Применительно к другому можно, а к себе самому не получается, ни у одного из семи не получается.
В таком контексте название повести обретает особый смысл. Не о приговоренных к повешению пишет Леонид Андреев, а о тех, кто уже повешен, хотя казнь состоится только в финале, а на протяжении всего сюжета герои живы, чувствуют, размышляют, разговаривают даже.
Наверное, этот момент от оглашения смертного приговора до исполнения его и есть суть высшей меры наказания. Прежде, чем отнять у человека жизнь, у него отнимают ощущение бессмертия.
Читать Леонида Андреева столь же мучительно, как Достоевского, а, может быть, и сильнее. Ведь Андреев работал преимущественно в малой форме и выдавал квинтэссенцию пограничного состояния человека, максимально сжатую, концентрированную, в первый момент отвергаемую сознанием. Но проза такого рода помогает лучше понимать и принимать людей.
![]() Стронций 88, 27 июня 2017 г.
Стронций 88, 27 июня 2017 г.
Я иногда подумаю, и мне становится страшно – что же творилось в душе и в голове Леонида Андреева? Как можно было оставаться в своём уме, живым и здоровым принимая на себя такие удары. Ведь читаешь и понижаешь, что автор буквально проживал с героями все эти муки, все эти страхи и страсти – иначе не было бы так реалистично, так правдиво и густо. А может это и есть та редкая смесь гениальности и безумия, что способна выдавать такие мощные как взрыв вещи?..
Признаться, когда я читал эту повесть впервые, она меня впечатлила в меньшей степени, наверное, на фоне просто космических вещей типа «Иуды Искариота» и «Красного смеха». Но сейчас, перечитав её в отдалении от других вещей Андреева, я ощутил всю её страшную силу. Тема – жуткая. Семь человека перед лицом объявленной смерти. Даже восемь, так как и министр в начале стоит перед этим, и мучается уже тем, что она была возможна, и оно едва не убило его само по себе – он объявил тему, начал линию. Что уж говорить об этой семёрке совершенно разных людей…
Но оно дело тема, другое – исполнение. А исполнение было настолько сильным, что я не мог читать долго, прерывался – так было жутко и густо всё это, так реально, что просто казалось, не выдержу… и то глотка дубела, то саднило в горле, то голова начинала кружиться. Как он это делал? Он будто был с ними вместе, с такими разными, но такими реальными, прожил эти дни от вынесения приговора да самой казни. Так реально, так эмоционально густо и правдиво (все эти эмоции – нет, так, наверное, только человек, ощущавший это, мог описать), так страшно. И даже некоторое повторение каких-то фраз здесь было абсолютно правдиво и по делу – как попытка разума зацепиться за край в этом скольжении в безумие. Семь человек и семь точек разлома. И у каждого собственная настоящая реакция на всю эту муку, семь разных реакция на проявление Жизни и неминуемой Смерти в ожидании виселицы. Жутко. И кое-где жуткое почти лавкравтовское безумие, практически визионерское, с какими-то неуловимыми глубинами и гулом неизвестного и оттого очень страшного, непостижимого. И всё это передаётся – отчётливо, практически залезая под кожу, проникая в сознание густым и горячим, реальным и странным потоком ощущений, потоком откровений, безумия и страхов (даже через Вернера, которому близкая Смерть дала, наконец, ощущение Жизни, на последние несколько её часов – и в этом тоже было что-то щемящее и страшное). И очень психологически правдиво, ясно всё передано – у меня не было не одной ноты сомнения, что это вообще могло быть как-то иначе с душой и разумом человека. И в этой психологической правдивости так ярко и сочно оформляются личности персонажей, что просто выжигаются в памяти.
А ещё как тонко, не переигрывая, не перегибая, здесь в этом ожидании Смерти (вообще в этой повести о Смерти), тонко и больно проявляется Жизнь, иногда даже просто символами – противостоящими, слабыми, как, например, оттепели, наступающая весна. И в этом противостоянии, в каком-то тщетном – то всё величие и несправедливая неумолимость Смерти, та вся её чуждость, вся, кажется, противоестественность Смерти как явления – и тем горче и страшнее. Потрясающая, невероятно жуткая, глубокая и невероятно сильная вещь.
![]() chigrishonok, 28 сентября 2024 г.
chigrishonok, 28 сентября 2024 г.
Фантазия у Леонида Андреева — развита на ять.
Но, при чтении, меня не оставляла мысль, что этот текст — мелодия, и развивается по-мелодичному. То-есть, алгебраически, умственно, кабинетно.
На потребу читателя.
Андреев хорошо умеет подбирать слова и компоновать текст, он отличный психолог, и понимает, как и что и каким образом будет воздействовать на читателя.
И люди у него — это марионетки, которыми он, автор, работает, заставляет их двигаться так-то и так-то; люди для него — актёры, которыми он, как режиссёр, работает, заставляет их улыбаться, вздыхать, плакать, смеяться — по собственному щелчку.
Все эти переживания настолько клинически выписаны, что душу не захватывают вообще.
Есть писатель, который лично пережил предсмертное состояние и описал его, это Достоевский.
Гораздо более простыми словами.
![]() AlisterOrm, 10 сентября 2018 г.
AlisterOrm, 10 сентября 2018 г.
Леонид Андреев создал мрачный, тягучий и объёмный рассказ о мгновениях перед неизбежным концом. Это чем-то похоже на то, что писал Виктор Гюго в «Le Dernier jour d’un condamné», только французский классик написал лишь о нарастающем ужасе и страхе человека, идущего на гильотину. Леонид Андреев пошёл дальше, поставив перед лицом смерти целые миры.
Ведь каждый человек по своему проживает свою жизнь, по своему её чувствует, проходит сквозь мгновения, минуты, часы отпущенного времени. Греческие бездельники, видимо, были правы, когда называли человека микрокосмом, ведь каждый из них по разному смотрит в лицо неизбежному, и осознаёт его близость. Ведь, когда до смерти остаётся всего несколько дней, ты чувствуешь всё куда острее. Мечтательный романтик, как бомбистка Муся, уйдёт в свои грёзы, осознавая, что она бессмертна, и смерти нет на самом деле, ибо жизнь есть нечто хрупкое, нечто нематериальное. Есть сухой и рациональный Вернер, который, перешагнув безумие хаотичной реальности, обрёл любовь и гармонию просто к тому, что она — есть. И Сергей Головин, молодой и крепкий военный, с наслаждением будет тянуть и разминать свои вскоре умершие мышцы, ведь в простой гимнастике столько наслаждения, наслаждения своим собственным,крепким, живым телом. И Василий Каширин, всегда бравирующий со смертью, насмехающийся над ней, оказался не способен принять её, и просто умертвил сам себя — убил свою душу.
В общем-то, это рассказ не о грядущей смерти, а о жизни, о её последних и наиболее острых мгновениях, когда человек раскрывает сам себя перед лицом неведомой Вечности, последний раз вдыхая сладкий весенний воздух уже чужого мира. А маленькие миры маленьких людей, даже таких жалких, как Янсон и Голубец, ушли в неведомые глубины, оставив после себя трупы с вывернутыми шеями, которые вдруг перестали быть ценными и важными, перестали быть людьми. А весна продолжается, солнце восходит, и ласково освещает молодую, новую листву. Ведь большой мир жив, пусть даже семь ушедших людей этого не почувствуют.
![]() vesnyshka, 18 февраля 2017 г.
vesnyshka, 18 февраля 2017 г.
Ощущение, будто я прочла роман. В этом рассказе столько эмоциональной глубины, что в какой-то момент начинаешь тонуть в страхах героев. А бояться им есть чего — они приговорены к смерти через повешение. Они все разные, но автору одинаково хорошо удаётся создать их психологические портреты. И вот ты уже проживаешь с каждым его экзистенциальные мучения. Кто-то из них, невзирая на скорую смерть, продолжает заниматься в камере спортом, кто-то приходит к мыслям, что смерть не есть концом, кто-то практически сходит с ума, кто-то просто заведено повторяет «меня не надо вешать!»... И в какой-то момент читать всё сложнее, потому что автор оголяет твой нерв и нанизывает на него дни ожидания смерти героев, а это весьма болезненно.
Смерти будто и нет, пока ты о ней не думаешь. «И не смерть страшна, а знание ее; и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определенно знать день и час, когда умрет,« — верно размышляет один из персонажей. А семи героям известно о её приближении.
Я до последнего надеялась, что что-то пойдёт не так, что Цыганок уговорит кого-нибудь бежать, что жандарм пожалеет молоденькую Мусю, что... но нет. Приговор приведен к исполнению.
А мир продолжает жить, просыпающийся день пахнет новой весной, и только утерянная по пути к смерти Сергеем калоша чёрным пятном на снегу напоминает о содеянном.
![]() igor_pantyuhov, 11 января 2014 г.
igor_pantyuhov, 11 января 2014 г.
В этом рассказе, писатель сформулировал две очень важные мысли. Мысль 1. Никто не должен знать своего будущего. Если ты будешь знать свое будущее — значит ты не сможешь жить жизнью, в полном смысле этого слова. Наслаждаться каждым мгновением, испытывать все те ощущения, которые испытывают нормальные люди — страх, любовь и прочее. Ибо зачем их испытывать, если все знаешь наперед. Мысль 2. Самое страшное — это ожидание. Не только смерти, но и вообще какого-либо события, которое как ты знаешь неминуемо должно произойти. Да, в данном случае — смерти. Но это ожидание неминуемой смерти, мучительно не только для тех, с которыми это произойдет, но и так же не менее мучительно, для их родных и близких.
Повесть немного подзатянута, но это делалось с определенной целью — чтобы читатель сам проникся атмосферой, которая царит в ней. Кроме того, в повести довольно много действующих лиц, которые тоже ожидают своей участи. На их примере, показано как кто справляется с этим ожиданием. И как это ожидание способно «сломать» людей. Каждого по своему конечно, но все равно ведь оно их сломало. И в конечном итоге мы понимаем, что нет ничего хуже чем ждать. Оценка 8. Спасибо за рекомендацию
![]() Alex Kolz, 28 января 2013 г.
Alex Kolz, 28 января 2013 г.
Смертная казнь, индивид на пороге смерти — понятно почему людей всегда интересовала эта тема. Такое заглядывание в бездну и страшит, и привлекает. Леонид Андреев взял самых разных людей и попытался увидеть человека перед смертью. Не конкретную психику в определенных обстоятельствах, а просто как человек может встречать смерть. С его точки зрения, смерть, ожидание смерти выступает как что-то очищающее человека от жизни. Перед ней все становится неважным, каким-то мелким, суетливым. Политика, идеалы, ценности, привычки, обиды — все ерунда, когда небытие надвигается так близко. И даже страх уступает место какому-то другому очень глубокому, трудно поддающемуся описанию чувству. И это немного напоминает Л.Н. Толстого.
Андреев написал повесть удивительной эмоциональной концентрации. Причем эмоциональность не захлестывает читателя. Андреев то немного увеличит давление, то чуть отступит, как бы подготавливая читателя к финальному взрыву. Повесть и подавляет, и страшит, и увлекает. Андрееву удалось, как мне кажется, подсмотреть что-то в том, как человек встречает небытие.
![]() Velary, 8 сентября 2016 г.
Velary, 8 сентября 2016 г.
Так странно: всего пару дней назад в рамках этой же игры читала «Последний день осужденного к смертной казни» Гюго, и сейчас вновь та же тема (выбирала не специально). Может поэтому повесть Андреева не стала для меня откровением, как могла бы, а оказалась неким логическим продолжением.
Семь человек, семь «последних дней», семь дум о жизни и смерти. Кто-то боится, кто-то стремится к ней, кто-то переживает о других, не думая о себе... И получается, что не так страшна смерть, как её ожидание, особенно когда ты знаешь точный день и время, и только и остаётся, что отсчитывать часы. Написано простым языком, без надрыва, но пробирает до глубины души.
![]() duke, 20 декабря 2009 г.
duke, 20 декабря 2009 г.
Шедевральный рассказ. Много можно было бы подобрать эпитетов, восхваляющих «Рассказ о семи повешенных», да уж больно мелко они смотрятся на фоне андреевского текста. Поэтому даже и пытаться не буду.
![]() gramlin, 3 октября 2024 г.
gramlin, 3 октября 2024 г.
Худшее проявление классической русской литературы т.н. «золотого» века. Тонны причастных оборотов и описаний природы, неба и воздуха к месту и не к месту. А главная цель любого классического романа — раскрыть характеры персонажей не достигнута. Намек на понимание и сопереживание есть только к одному из 7 ГГ (отчасти потому что его действия абсурдны, и этот абсурд стилистике автора передать удалось). Рассказ посвящен Толстому, вот, думаю, что Лев николаевич мог б объяснить автору, что для описания характера недостаточно описания внешности или поведения.
![]() anchaheel, 9 января 2013 г.
anchaheel, 9 января 2013 г.
Аарргх! Да это же самое настоящее пособие по погружению обывателя в состояние ангедонии! Если вы из любителей пустить слезу умиления завидев пукающую панду — приступая к чтению избавьтесь от табачных, вино-водочных, колюще-режущих, а также от гармонирующих с вашей шеей изделий; либо если вам надоело идти по жизни такой размазней — все это непременно приобретите. Чудесно.
Будучи знакомым с «Красным смехом» того же Андреева, зная что повесть сравнивают со «Стеной» Сартра — несложно было представить общую атмосферу книги и вооружиться чем-то вроде :-|. Я же, в который раз, посреди книги неожиданно обнаружил, что гол как сокОл и как итог: чуть соплей и общее состояние опустошенности приобрел. Эдакое безобразие.
Читая, в очередной раз негодовал по поводу отзыва Л.Н.Толстого о творчестве автора:
«По поводу Леонида Андреева я всегда вспоминаю один из рассказов Гинцбурга, как картавый мальчик рассказывал другому: «Я шой гуйять и вдъюг вижю войк... испугайся?., испугайся?» — Так и Андреев все спрашивает меня: «испугайся?» А я нисколько не испугался».
Черт побери, Лев Николаевич, вы о чем?! Неудобно, конечно, противоречить мнению эдакого мастодонта от литературы, но рассматривать творчество Андреева как то, чем хотят напугать — несуразно что-ли. Андреев это не Гоголь с его «Вием», не Брэм Стокер и не, тьфу ты, Клайв Баркер. Андреев — это как если бы весь многотомный депрессняк Достоевского засунуть в одну повесть; или (если сравнение с другим мастодонтом вас смущает) как если бы знаменитый монолог Летова «Человека убило автобусом» растянуть в одну же повесть. Андреев, он такой Андреев ©.
![]() Desenchantee, 18 августа 2010 г.
Desenchantee, 18 августа 2010 г.
Удивительно психологичный рассказ. После прочтения долго сидела над открытой книгой... Зацепило. Даже немного жалею о том, что незадолго до этого прочла «Стену» Сартра — с похожей ситуацией, похожими ощущениями героев... В противном случае впечатление могло бы быть еще ярче.