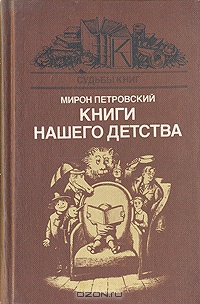Мирон Петровский родился 8 мая 1932 года в Одессе. С детства увлекался литературой, еще до школы читая «взрослые» книги (Н. Толстого, Ж. Верна, В. Ирвинга, Г. Уэллса, А. Пушкина и многие другие). Настоящим открытием, воспоминание о котором осталось на всю жизнь, для Петровского стала книга К. Чуковского «Высокое искусство»:
«Эта книга (К. Чуковский «Высокое искусство» – прим. ред.) открыла мне, двенадцатилетнему закомплексованному подростку, возможность быть свободным, научила свободе. То есть, конечно, я не стал вмиг и навсегда свободным, но ощущение было такое, будто я вырвался из клетки самого себя, прорвался к самому себе, и обратно уже не вернусь, а буду только расширять прорыв, отгибая прутья. Так научившийся однажды держать равновесие на велосипеде или держаться на воде уже вовеки не разучится, даже если никогда и близко не подойдет к воде и велосипеду. Такое вот ноу-хау. Разумеется, тогдашние слова были другие, да и не помню я слов, но ощущение было то самое. Самое то».
В 1957 г. М. Петровский окончил заочное отделение филологического факультета Киевского университета им. Т. Шевченко. С конца 50-х гг. печатался в различных газетах и журналах, не всегда успешно преодолевая трудности цензуры. Потом в 1960 г. был вынужден уехать из Киева в Москву, чтобы избежать преследований местного КГБ. В Москве находился в сложном положении: без жилья и постоянной работы, живя на гонорары от напечатанных статей.
В такой нелегкой ситуации Мирон Петровский нашел лазейку, которая позволила ему публиковаться и работать по специальности. Ею была детская литература – одно из немногих убежищ для литераторов и ученых того времени. На протяжении 1960-х гг. Петровский опубликовал несколько десятков статей о советской детской литературе в различных педагогических журналах. И никаких комплексов относительно якобы ненастоящего, «детского литературоведения», по словам автора, не испытывал.
В 1966 году он собрал, переделал и скомпоновал эти статьи в книгу под названием «Детская литература – большая и маленькая» (отсылая к маршаковскому названию «Большая литература для маленьких»), впрочем, книга не только не была издана, но и стала причиной скандала. 21 августа 1968 года автор получил из Москвы телеграмму о том, что договор на книгу разорван в одностороннем порядке, а набор ссыпан. На протяжении 1966–1986 гг. Петровский не мог напечатать свою книгу, поскольку его заявки отклоняли, рукописи возвращали или вообще оставляли без ответа. Как вспоминает автор, одних заявлений, которых он подал около 40, с различными проектами и концепциями хватило бы на отдельную книгу.
За эти двадцать лет вынужденного молчания он написал почти с десяток книг по различной тематике: о культурных контекстах Маяковского, о советской научной фантастике (между утопией и детективом), о структурной поэтике цирка, о поэтическом мышлении Самуила Маршака, книгу очерков «Только одно стихотворение» и другие. Однако все они так и остались в рукописях как свидетели того времени.
Наконец в 1986 г. Петровскому удалось издать вторую, новую книгу о детской литературе — «Книги нашего детства», а в 1990 году в издательстве «Советский писатель» вышел его культурологический труд «Городу и миру: киевские очерки», который второй раз был опубликован в 2008 году в издательстве «Дух и литера».
В настоящее время в центре интересов Мирона Петровского – город и все, что с ним связано: художники, детская литература, романс, кабаре, анекдот и многое другое.
По материалам: Мирон Петровский: Биобиблиография / Сост. Ю. Веретенникова; Под ред. С. Захаркина и А. Пучкова. – Киев: Издательский дом А+С, 2007. – 84 с. – С. 7–24.
http://ru.duh-i-litera.com/petrovskyj-myr...
****
— Мирон Семенович, один из самых традиционных, и в то же время необходимых — вопрос о творчестве.
— Когда мне говорят «Расскажите о вашем творчестве», — я вздрагиваю и нервно оглядываюсь. Поскольку творчество — это то, чем занимались Шекспир, Шиллер, Пушкин. У меня — просто работа.
— Вы на службу не ходите?
— Нет, с 59-го года работаю за письменным столом. Я не готовился специально к такому образу жизни. Я дергал все двери, пытаясь социализироваться, все двери были закрыты, открылась только эта. Но — рад, потому что благодаря этому мог избежать участия в разном советском непотребстве. За всякий выбор приходится расплачиваться. Мне за мой — безвестностью, полным не вхождением в какие-либо структуры и прежнего режима, и нынешнего, аутсайдерством. Я не являюсь членом никакого союза, у меня нет ученой степени или звания. Мне на визитке нечего написать, кроме имени, адреса и домашнего телефона. Приходится дорожить тем, что есть — именем, адресом, телефоном...
«АНЕКДОТ — ЭТО ОТНОШЕНИЕ МОЛЧАЛИВОЙ МАССЫ К «ОФИЦИАЛЬНОМУ РЕПРОДУКТОРУ»
— Много лет меня больше всего занимает низовая, массовая культура вплоть до кича, которую я изучаю по разным источникам и непосредственно наблюдаю в Киеве. Пренебрежение этими периферийными сферами городской культуры, к которой приобщена большая часть городских жителей, — это необоснованное высокомерие. Я занимаюсь детской литературой, цирком, романсом, кабаре, анекдотом и так далее.
Нынешний городской фольклор именно и держится на таком явлении как анекдот, все иные фольклорные жанры — либо исчерпаны, либо близки к исчерпанию. Тут, простите, не советская власть виновата, а общецивилизационный процесс. Я долго присматривался к анекдоту, он мне кажется выдающимся явлением. Если бы от советской эпохи дошли до нас все печатные источники без анекдота, то мы бы сейчас знали гораздо меньше, чем в том случае, если бы остался анекдот, а они — исчезли. Информативные возможности анекдота, его моделирующие способности — поразительны: десятком слов охватить явление с необычайной глубиной и полнотой. Едва ли из наших современников найдется такой, кто бы не слушал или не рассказывал анекдоты. Далеко не все читали Джойса, но к анекдоту приобщены все. «Человек анекдотический» — знаменье времени. Но я не замечал, чтобы наши ученые — социологи, культурологи, политологи — обратили на него серьезное внимание и занялись бы им. Для таинственной дисциплины, которую иногда называют «народоведением», из анекдота можно узнать много такого, чего из других источников извлечь просто невозможно.
— То есть, вы считаете, что анекдот — это такая выраженная симптоматика состояния общества?
— Безусловно. Через типологию анекдота мы можем понять особенности массового сознания, современную мифологию, массовую социологию и политологию, кстати, не такую уж примитивную. Анекдот — это маленький апокриф, если понимать под этим неофициальный миф, противостоящий канонам официальной лжи. По анекдоту можно понять, как лгали люди в каждый период истории. Анекдот разоблачает официальную ложь, доводя ее до нелепости и показывая абсурдизм существования в условиях лжи. Так что я думаю, анекдот, будучи художественным созданием, по сравнению с художественной литературой, имеет несомненные преимущества. Его можно описать и как отношение молчащей массы к «официальному репродуктору». Как попытку восстановить некоторое равновесие в мире, нейтрализовав громадину громыхающей лжи — шепотом правды. Не важно — в подземном переходе, на кухне, в застолье — это один из механизмов восстановления душевного здоровья социума.
То, что анекдот обладает огромным психотерапевтическим эффектом, подтверждается простым наблюдением. Если бы вы обратились к психиатрической литературе и статистике с вопросом: «Какие темы наиболее часто появляются в бреду у пациентов клиник?», ответом было бы: «политика и эротика». Все бреды несчастных, получивших страшную социальную травму, заняты этими двумя проблемами. Этими же двумя областями почти целиком занят и анекдот. Причем даже процентное соотношение совпадает. Смеясь над анекдотом, современник защищается от соответствующей клиники. Это — разновидность социально-психиатрического страхования. Анекдот — это еще и антибред, факт и фактор душевного здоровья нации.
Я очень надеялся, что когда рухнет советская цензура — люди кинутся наперебой говорить друг другу правду. И очень обманулся. Как только стало возможным не врать по-советски, мгновенно, буквально через запятую, без паузы — стали врать по-другому. Причем нередко — те же самые персонажи. Для меня это было чудовищной травмой, от которой я пытаюсь оправиться и до сейчас.
— Но сейчас, по моим наблюдениям, политический анекдот угасает.
— Дело в том, что многосоставность политических мнений, заявленных публично, делает бытование анекдота в этой сфере не обязательным, не актуальным. Любая газета по отношению к своему оппоненту уже выполняет эту разоблачительную функцию. От политики люди основательно устали, выработался «усталостный индифферентизм», а социальные и бытовые заботы требуют постоянного напряжения. Поэтому политический анекдот отстал, он, так сказать, отдыхает в сторонке, дожидаясь своего часа. Но как только в потоке информации обнаруживается пропагандистский перебор, хитрованское замалчивание или корыстная ложь (а когда ложь бывает бескорыстной?), политический анекдот тут как тут.
Если бы выстроить политические анекдоты в хронологической последовательности их возникновения, то получилась бы картина удивительная. И поучительная. Оказалось бы, что по мере сгущения социальной опасности или тягот — сгущается и анекдотическое творчество в массе горожан. Кровавая середина 30-х годов, война, 1949—1953 годы, так называемая «оттепель» и, наконец, Чернобыль с перестройкой — дали громадные вспышки анекдотического творчества. Жутко вспомнить, но ведь Чернобыль проходил под раскаты смеха, едва ли не истерического. Перестройка начиналась под знаком Чернобыля — этого видения смерти у входа в новую жизнь.
— Сейчас всплеска нет?
— Сейчас анекдот находится как бы на «ровном», «фоновом» уровне. Это объясняется, полагаю, не в последнюю очередь информационными обстоятельствами, условиями существования анекдота. Дело в том, что с конца 80-х анекдот вышел из подполья и стал публикуемым жанром. Раньше он противостоял печатному слову целиком, теперь он отчасти работает вместе с ним, оставляя за собой право на свободное, автономное существование. Ведь сейчас, заметьте, стало модным — «анекдот в номер», что меняет функцию жанра. Из-за этого анекдот что-то потерял — не в остроумии, конечно, а в темах и объектах. Он — как глубоководная рыба, может существовать, казалось бы, только под давлением, но парадоксально, и на берегу не лопается, а продолжает выполнять свои функции. Нехватку давления он себе «подкачивает» сам...
Как вы поняли, я человек не из анекдотической среды, которая живет «свеженьким анекдотом», как своей информационной стихией. Я — скорее наблюдатель, правда, готовый написать оду в честь анекдота. То, чем я занимаюсь, складывается в систему периферийной городской культуры. Если Бог даст и я завершу этот цикл работ, то у меня появится ощущение, что я на каком-то участке познаваемого мира создал хоть какой-то интеллектуальный порядок. Чтобы обеспечить себе приближение к гармоническому существованию. Моя жена знает, что я не сяду за стол, пока не подмету пол в комнате. Возвращаясь, она не спрашивает, работал ли я, а только глядит на пол. Главный пафос моих усилий — преодоление хаоса на ближайшем участке мира. Я думаю, что в самом феномене культуры лежит эта, заложенная природой или Богом, страсть — навести порядок. Человеческий и человечный порядок...
«ПАРАДОКС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО СЕЙЧАС САМЫЙ МОДНЫЙ В КИЕВЕ ЯЗЫК — АНГЛИЙСКИЙ»
— Есть такая мысль, что в нашем молодом государстве многое не получается от недостатка городской культуры. Она не является у нас культурой органично-исторической. Поэтому управлять государством приходят люди негородской культуры. И что в этом смысле означает фигура горожанина как носителя определенных смыслов в обществе?
— К моему великому огорчению наиболее типичный городской человек — это маргинал. Это слово я употребляю не как ругательство, не как попытку заклеймить человека иных культурных ориентацией. Это не более чем констатация факта. В Киеве сейчас не менее трех миллионов человек населения, это немало даже по нынешним временам, когда во всем мире идет ускоренный процесс урбанизации. Заметьте, что из этих трех миллионов киевлян около двух третей — горожане в первом поколении. Их социальная и моральная ориентация очень «сдвинута». Когда украинский крестьянин в советское время становился горожанином, он, первым делом, старался перейти на язык, который ему казался русским, хотя таковым ни в коей мере не был. А все потому, что русский был языком официальным и престижным, людям казалось, что переходя на него, они приближаются к общеимперским ценностям, повышают свой социальный статус. Единственным же результатом этих усилий было чудовищное расширение области суржика.
Этимология этого слова очень поучительна: в русском языке уже есть неактивный префикс «су», который обозначает нечто среднее, промежуточное (сумерки — ни день, ни ночь, суглинок — не вполне глина). Так вот, суржик — это смесь ржи, жита с семенами диких злаков — нечто абсолютно несъедобное. Этимология многое объясняет: смесь близких языков, которая не является ни тем, ни другим, предстает чем-то принципиально акультурным.
В советское время суржик вырос в квази-язык. Теперь, когда украинский язык стал государственным и престижным, многие начали переходить на него, вернее, на то, что им кажется украинским языком. В результате, суржик «прирастает», наращивая массу, но уже с другой стороны. Я как носитель двух языков чувствую себя из-за этого вдвойне несчастным. Речи нет о депутатах Верховной Рады, для которых впору бы открыть ликбез, но уже дикторы радио и телевидения говорят так... Слава Богу, у этих двух языков есть возможности для культурного существования и сосуществования. Но суржик — это как смесь мыла с мороженым — ни съесть, ни умыться...
Как-то в начале 80-х меня пригласили в одну из киевских школ с просьбой побеседовать с учителями и школьниками о культуре речи. Для меня здесь — громадная филологическая проблема, о которой существуют сотни монографий и тысячи статей. Что я мог сказать о ней за 40 минут? Я понял, что для этой беседы нужна одна мысль, количество необходимое и достаточное Я сказал моим слушателям — ученикам-старшеклассникам и учителям, примерно следующее.
Мы живем в Киеве в условиях двуязычия. Нравится нам это или нет, но это — реальность, с которой приходится считаться. Что нам делать, чтобы в этих условиях сохранить наш русский язык? Доброжелательно и усердно изучать украинский. А что нам делать, если мы хотим сохранить наш украинский язык? Подобным же образом доброжелательно и усердно учить русский.
Ученики меня поняли — я сужу по вопросам, которые мне задавали, и по рекомендациям, которых они от меня требовали. А советские учителя... они поступили так, как и положено, в результате чего меня пригласили вскоре в одно небезызвестное, неудобозабываемое учреждение. И капитан Иванов (почему-то все были Ивановыми и капитанами) стал у меня выпытывать, почему я, еврей — и вдруг украинский националист? Я простосердечно пытался ему что-то объяснить; тогда он, сделав крутой поворот, стал выяснять, почему я — русский националист. Кончился этот анекдот часа через три, когда взмокший капитан попросил, чтобы я помог следствию и сам назвал, какой национализм исповедую.
Конечно, сейчас я могу рассказать об этом со смехом и ничем не рискуя. Но что с того, если в школах по-прежнему эти два языка преподают люди, худо ими владеющие? А у меня по- прежнему нет другого ответа на вызов двуязычия, кроме того, который дал тогда. Культурный парадокс нынешней городской жизни заключается в том, что сейчас самый модный язык в Киеве — это английский. И уже сложился городской слой, владеющий английским языком лучше, чем родным. Понимание того, что родной язык подлежит изучению точно так же, как иностранный, чуждо сознанию моих сограждан. Как прекрасно мы писали бы и говорили бы и по- русски и по-украински, если бы затратили на их изучение хоть часть тех усилий, которые тратим на овладение английским! Не подумайте, пожалуйста, будто я протестую против хорошего преподавания английского...
«К СИМВОЛАМ И ЗНАКАМ, В ОТЛИЧИЕ ОТ СУЩНОСТЕЙ, МЫ ОТНОСИМСЯ ТРЕПЕТНО»
— Не кажется ли вам, что сегодня и сельский, и городской человек в Украине живут на обочине общемировой культуры?
— Культурная маргинальность нынешнего киевлянина во многом определяется его положением между русским и украинским, между городским и сельским. Суржик, о котором мы говорили, можно рассматривать и как своего рода языковую модель этого состояния. Город и село представляют настолько разные культурные образования, что их всегда противопоставляют. Чаще всего — в социальных дисциплинах. Если же говорить о культуре общенациональной, то она всегда (при всей относительности этого «всегда»!) складывалась из взаимодействия этих двух составляющих. Этнически чистая среда, как правило, была представлена именно селом. Город — всегда многоязычен. Неслучайно самый знаменитый миф о «смешении языков» связан с большим городом — Вавилоном. Но самая большая проблема, полагаю, заключается не в языковой, а в социально-этической сфере. Попадая в город, вчерашний сельский житель видит, что здесь живут как-то по-другому. И представления горожан — другие. Это «другое» новоиспеченный горожанин бессознательно воспринимает как «никакое». Раз здесь живут не по сельским правилам и традициям — значит, делает он вполне безосновательный вывод, — живут без правил и традиций. И он — опять-таки, вполне безотчетно — переходит на жизнь без правил, деморализуется. Вот в чем зерно катастрофы.
Деморализованность массы населения, вливающегося впервые в городские структуры, — велика и чрезвычайно опасна. Тем более, что из этой среды все больше людей входят в общественную жизнь и в структуры власти. Из них формируется и новая буржуазия — завтрашние (отчасти и сегодняшние) хозяева жизни. Не в доказательство этой опасности, а лишь для примера: большая часть городской милиции многие годы вербовалась из сельских парней. Насколько такой милиционер, по меткому слову Юрия Олеши, — «крестьянин со свистком», может быть защитником горожанина? Защитником человека, достаточно чуждого ему по образу жизни, по моральным ориентирам? Для этого у него нет никакого внутреннего стимула. Впрочем, внешнего стимула у него тоже нет. За его тяжелый и опасный труд ему платят вздорно мало, и потому его легко может перекупить новый богач. Вчера он защищал советского и партийного начальника — не станет ли он сегодня защитником мафиозного бизнесмена?
Одним словом: нет вопроса, что лучше — городская или сельская культура. Есть вопрос о переходе из одной в другую.
А горожанин — просто горожанин — сейчас как никогда нуждается в защите. Он, бедняга, со всех сторон получает все новые сведения о росте преступности, о заказных и спонтанных убийствах. При советской власти монопольное право на убийство принадлежало государству, которое пользовалось им охотно и с размахом. Главным преступником было именно государство. Крах советской государственности привел к возрождению частной собственности, к приватизации права на убийство и вообще — на преступление. Судя по результатам, приватизация в этой области прошла успешно. Не потому ли, что она проходила стихийно, без бюрократической волокиты?
— И все-таки, есть ли что-то общее в сельской и городской культуре? Ведь даже противопоставляя их друг другу, мы связываем их, покрывая одним и тем же словом «культура»?
— Общего, полагаю, больше, нежели различий. Сходство есть и в предрассудках. Бросается в глаза: мои сограждане почему-то самым странным образом путают знак и значение, символы и сущности. Отдавая при этом предпочтение знакам и символам. Мы обзавелись собственным гербом, гимном, флагом — символами нашей государственности. Экономическая, политическая, социальная сила — кажутся чем-то чуть ли не второстепенным...
В городе ускоренными темпами идет строительство древнего Киева, который сооружается методами ударной социалистической стройки. Восстанавливаются объекты для меня бесконечно драгоценные. Вот Михайловский Златоверхий — без него и Киев не Киев, и я не я. Но ведь эта стройка не самая первоочередная, могла бы и подождать. Не дадут, поскольку речь идет о символе, а к символам, в отличие от сущностей, мы относимся трепетно.
По городу пронесся вал переименований, повышающих (словесно, знаково повышающих) статус. По наблюдению моего уважаемого коллеги Вадима Скуративского, техникумы объявили себя колледжами, институты — университетами, университеты — академиями, так что в городе остался один институт — красоты и гигиены. Впрочем, и он, кажется, теперь носит более престижное имя. Конечно, как сказал поэт — «красивое имя — высокая честь», но переменилось ли что-то смысловое? Повысился ли уровень преподавания, положение учащихся и учащих? За этим веселым карнавалом переименований мне видится какой-то пережиток мифологического мышления, почти шаманская вера в то, что дав больному другое имя, мы получим другого человека. Конечно, здорового.
Для культуры — кто спорит? — нужны и символы. Но не пора ли уже позаботиться о сущностях? А сущность в том, что нет сейчас у нашей культуры (да и у нас вообще) большей проблемы, чем экономическая. К этому с неизбежностью сводятся все наши рассуждения и дискуссии. Ведь это нелепо, когда государство не платит зарплату учителям и врачам, но желает брать с этой невыплаченной зарплаты налог. Так не бывает. Это — ситуация для нового анекдота. По словам русской юмористки Тэффи, слушать и рассказывать анекдоты — весело, но жить «внутри» анекдота — невыносимо тяжело.
Разговаривала Анна ШЕРМАН, «День»
https://day.kyiv.ua/ru/article/lichnost/m...
*****
Ольга Канунникова
"Только детские книги читать..."
Мирон Петровский. Книги нашего детства. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2006, 424 стр.
"...В детстве — все читатели, все слушатели бабушкиных или маминых сказок и сравнительно узкого круга книг, составляющих основной фонд т. н. детской литературы. У множества взрослых людей с высокой вероятностью не окажется общего читательского фонда, кроме этих сказок и книжек, прочитанных/прослушанных в детстве. Тогда эти сказки и книжки с неизбежностью примут на себя роль единственного текста, объединяющего всех людей этой культуры, странно сказать — функцию └главного текста” культуры” (из интервью Мирона Петровского).
Ярко-желтую суперобложку целиком заполняют три слова, набранные огромными, тоже празднично яркими буквами: “Книги нашего детства”. Такая обложка очень подошла бы к азбуке или к серии “Мои первые книжки”, к тонким нарядным изданиям для начинающих читать. По объему книга хоть и небольшая, но довольно толстая — явно не для маленьких детей. К какому же читателю эта “детско-взрослая” книга обращена? Смысл этой дизайнерской игры становится понятен, если заглянуть на задний оборот суперобложки — там приводится цитата из вступления Мирона Петровского к “Книгам нашего детства”: “Детские впечатления от сказки закрепляются в нашем сознании на всю жизнь, и как жалко, что мы уже не различаем в слове └впечатления” его корневую └печать”, └впечатанность”. Сказка впечатана в нас навсегда — крупным шрифтом наших детских книг”. Дизайнер понял слова про “крупный шрифт” даже слишком буквально — и этому замыслу подчинил все оформление издания, где идея “крупного шрифта” обыгрывается много раз. Книга же эта сама по себе столь увлекательна, в ней самой — при полной серьезности содержания — заключено столько внутренней веселости, что не очень понятно, что сверх того может добавить дополнительная игривость дизайна. В предыдущем издании “Книг нашего детства” (издательство “Книга”, 1986) оформление было менее броским внешне и более емким внутренне — что, как нам кажется, больше соответствовало духу книги. Впрочем, это все — ворчанье читателя, приверженного уходящей полиграфической традиции. Прекрасно, что переиздание все же состоялось1, — порадуемся этому и поблагодарим питерское Издательство Ивана Лимбаха за факт появления книги.
Первое издание “Книг нашего детства” вышло во времена перестроечные. Немаленький тираж — 75 000 экземпляров — разошелся сразу, книга стала излюбленным чтением филологов и библиографической редкостью — отловить ее можно было разве только в букинистических магазинах.
В чем была причина такой популярности? Наверное, в том, что книга, написанная увлекательно, как детектив, повествовала о сочинениях, всем знакомых и памятных с детства, но в плоскости совсем неожиданной (“Крокодил” Чуковского, оказывается, отсылает к Некрасову и к лермонтовскому “Мцыри”, а “Золотой ключик” — во многом пародия на творчество Блока и намек на историю отношений Театра Вахтангова и МХАТа). Для тогдашних читателей книга была дорога еще и тем, что в ней был заключен как бы двойной опыт свободы: она пленяла, во-первых, тем, о чем она повествовала, а во-вторых, тем, как это было сделано. В сказке Толстого за наивно расписанным холстом в каморке папы Карло скрыта потайная лестница, ведущая в иной, волшебный мир театра; книга Петровского убедительно показала, что за “холстом” истории о Буратино (о Крокодиле, о Рассеянном, о Железном Дровосеке и т. д.) скрыта даже не лестница, а целая система лестниц, переходов, галерей, ведущих от сказки — к истории русской литературы, к теории театра, ко всему культурному опыту последних лет серебряного века и первых послереволюционных.
Какой же предстает эта книга сегодня, два десятилетия спустя?
Если сравнить два издания, то станет очевидным, что автору почти ничего не пришлось менять — ни в идеологии, ни в интонации своего сочинения (даже слово “советский” можно было не вычеркивать — по замечанию Мирона Петровского, это слово везде означает не идеологическую ориентацию, а только принадлежность некоторой исторической эпохе; а эпоха ведь все равно будет называться “советской”, никуда не денешься); были восстановлены некоторые места, вычеркнутые цензурой (или редактором).
Например, в главе “Крокодил в Петрограде” добавился эпизод о перекличке (еще одной перекличке) с Гумилевым, с его “африканской” поэмой “Мик”. Сходство прослеживается и в ритмическом строе, и в образах, и даже в рифмах обеих поэм:
Эй, носороги, эй, слоны
И все, что злобны и сильны,
От пастбища и от пруда
Спешите, буйные, сюда!
(Гумилев)
Сравним:
Вы так могучи, так сильны —
Удавы, буйволы, слоны…
Вставай же, сонное зверье!
Покинь же логово свое!
(Чуковский)
(На это сходство обратил внимание один из рецензентов первого издания книги, Михаил Безродный, догадавшись, видимо, о цензурной купюре.)
Еще одно место, выброшенное из первого издания, — параллель между Мальвиной из “Золотого ключика” и актрисой Театра Мейерхольда М. Бабановой. Тут уж совсем непонятно: чем параллель эта цензуре не угодила?
Назван еще один общий источник “Крокодила” Чуковского и “Двенадцати” Блока: частушка с необычным ритмическим ходом:
Пила чай с сухарями,
Ночевала с юнкерами!
Маланья моя,
Лупоглазая! —
вероятно, широко известная в начале века (она же звучит и в рассказе Леонида Андреева “Вор”).
Исправлена одна досадная неточность в подписи — автором иллюстрации к “Рассеянному” Маршака является В. Конашевич, а не В. Лебедев, как было указано в предыдущем издании.
Появились и другие уточнения. Например, о том, что стихи из “Золотого ключика” написаны вовсе не Толстым, а его тогдашней женой Натальей Крандиевской (“по крайней мере в значительной и трудно установимой части, а может быть, и целиком”). Драматическая история отношений Толстого и Крандиевской, где личное сплетено с художественным, добавляет еще одну (литературную? человеческую?) интригу в главу о “Золотом ключике”.
Выброшенный цензурой фрагмент о поэме Гумилева восстановлен, но в этой же главе не назван автор процитированного стихотворения “Заблудившийся трамвай”. В издании 1986 года упоминания о Гумилеве были вычеркнуты — а цитата тогда осталась: то ли ее не опознал бдительный редактор, то ли, наоборот, опознал, но решил, что можно оставить — без указания автора. Не очень понятно, почему имя поэта не восстановлено теперь.
Петровский высказывает догадку о том, что одним из прототипов Дуремара был режиссер В. Соловьев, помощник Мейерхольда по сцене и по журналу “Любовь к трем апельсинам”. Повод для такого предположения Петровский находит в псевдониме В. Соловьева (Вольдемар Люсциниус) и во внешнем сходстве Соловьева и Дуремара. Вот портрет Дуремара у Толстого: “Вошел длинный <…> человек с маленьким-маленьким лицом. <…> На нем было старое зеленое пальто”. А вот портрет Соловьева, нарисованный мемуаристом: “Высокий, худой человек <…> в длиннополом черном пальто”. Общего между ними то, что оба высокого роста и оба в пальто. Если исключить факт ношения пальто (а кто ж его не носил?), то остается одна общая черта — высокий рост. Все-таки для установления сходства оснований, кажется, недостаточно.
Но таких примеров, где увлеченность гипотезой превышает оснащенность доказательствами, в книге не так уж много.
Первая глава “Книг нашего детства” — “Крокодил в Петрограде” — начинается булгаковской реминисценцией: “Труден и преисполнен событий был год тысяча девятьсот девятнадцатый, от революции же — второй”. Это не просто эффектный ход (заход) к главе о сказке Чуковского — Михаил Безродный, рецензируя первое издание книги, почувствовал неслучайность отсылки к “Белой гвардии”: “Булгаковский роман с его лейтмотивным противопоставлением домашнего уюта бурям и тревогам жизни Города становится неявным, но действенным фоном повествования о детской книжке, выпущенной издательством Петросовета в 1919 г.”.
В главе “Что отпирает └Золотой ключик”?” речь идет о сказочном времени и пространстве — там подробно описан довольно извилистый маршрут, по которому следуют Буратино и его спутники. Описан он вот как: “Вся топография └Золотого ключика” изображена с такой реалистической дотошностью, что не составляет труда вычертить карту сказочной страны. Лишь один участок пути — от чудесной дверцы до чудесного театра — не удается нанести на карту никакими пунктирами. Здесь пространство у А. Толстого изогнуто самым фантастическим образом: найденный глубоко под землей, театр в следующей главе оказывается рядом с заведением Карабаса Барабаса — на площади, причем подразумевается, что его туда никто не переносил. <…> Путь Буратино и его друзей вниз приводит наверх вопреки всем законам физики, но в полном соответствии с логикой └идеологического пространства” Толстого. В этот завершающий момент с пространством сказки происходит еще одна трансформация: оно становится непроницаемым для злых сил”.
Откроем теперь главу “Миф о городе и мифологическое городоведение” (из книги М. Петровского “Мастер и город”) — и вот что там прочтем: “<…> от одной вещи к другой нарастает булгаковская игра с пространством, все очевидней становится присутствие в нем каких-то дополнительных неэвклидовых измерений”. Далее рассказывается об эпизоде бегства Алексея Турбина по Мало-Провальной: “Пробежав ярусы, сады и калитки <…> женщина в черном, явившаяся └в момент чуда”, выводит Турбина куда-то └высоко и далеко от роковой Провальной” — наперекор всем законам физики, но в полном согласии с мистическими законами булгаковской фантастики. <…> Необыкновенность пространства, преодолеваемого братьями, явный привкус чуда в обоих побегах и чудесное спасение связаны, кажется, не cтолько с Божьей волей, сколько с участием в перипетиях романа Мефистофеля-Шполянского”. В обоих случаях Петровского интересует, насколько противоречие “законам физики” соответствует законам и внутренней логике творчества писателя.
Интересно проследить, как от этой книги тянутся исследовательские ниточки к другим излюбленным темам и замыслам Мирона Петровского. Он — автор нескольких изданных книг и многих неизданных (в том числе о культурных контекстах Маяковского, о советской научной фантастике, о структурной поэтике цирка, о поэтическом мышлении Маршака).
В каждой главе “Книг нашего детства” как будто находится в “свернутом” виде еще одна книга помимо той, в состав которой она входит. Автор, может быть, непреднамеренно, а может — пользуясь возможностью высказаться, то проводит пунктиром, а то словно бы вписывает развернутые фрагменты из других, невышедших книг. Например, глава о Маршаке, кажется являющаяся частью другого, более обширного замысла; иные фрагменты разбросаны по журналам и малотиражным изданиям.
Таких тем много. Отметим лишь некоторые, для автора особо важные. Это — помимо творчества любимых им писателей (Чуковского, Маршака, Маяковского) — темы городской массовой культуры: цирк, анекдот, городская песня (романс), кич.
Интерес к низовым жанрам городской культуры можно типологически сопоставить с идеями формалистов (в частности, с мыслью Тынянова о том, что “высокая” литература оплодотворяется “низкими” жанрами).
Выскажем предположение, что у этого интереса есть еще один источник.
Творчество Корнея Чуковского — сказочника и литературного критика — Петровский остроумно (и одним из первых) рассматривает с точки зрения его отношений с так называемой массовой культурой. В главе “Крокодил в Петрограде” он подробно исследует влияние низовых пластов культуры на “поэму для детей” Чуковского и обращается к его ранней книге “Нат Пинкертон и современная литература”. Книга посвящена явлению “массовой культуры”, которую Чуковский в своих критических работах вдохновенно изобличал и порождением и продолжением которой был, как ни парадоксально, он сам — в своих сказках и поэмах для детей. (Мирон Петровский предлагает остроумный каламбур: слово “кич” — это аббревиатура от имени “Корней Иванович Чуковский”.)
Назовем в этой связи и мемуарный очерк Петровского о Чуковском “Читатель” (опубликованный в сборнике воспоминаний о К. И.). Там в анализе читательских предпочтений Чуковского много есть о том, как был чуток Чуковский к массовым жанрам и как этот интерес отразился на составе его последней переделкинской (и — гипотетически реконструированной — первой куоккальской) библиотеки. В этом очерке все названо — и цирк, и кич, и городской фольклор…
Мирон Петровский говорит, что мог бы обогатить литературу новым жанром — “книгой заявок” (поскольку является автором около сорока заявок на книги). Он полагает, что неизданные его книги принадлежат времени, в которое они были написаны, и поэтому не могут быть переизданы. Думается, что автор несправедлив к себе и к своим сочинениям.
В отечественном литературоведении за прошедшее время не появилось фундаментальных работ ни о цирке, ни об анекдоте, ни о советской фантастике (оговоримся — в том ключе, в котором ее рассматривает Петровский: как жанр между утопией и детективом). Все эти важные для понимания культуры жанры как были, так и остаются на периферии внимания литературоведов. До сих пор не вышло другого столь полного исследования об анекдоте, как исследование Петровского (статья “Новый анекдот знаешь?”, а по сути — книга, “свернутая” в статью и “сосланная” в таком виде в малотиражный профильный журнал “Философская и социологическая мысль”). Его “Русский романс на рубеже веков” (1997) на сегодняшний день остается наиболее основательным (а может, вообще единственным) трудом об истории и поэтике городского романса. А если бы вышла вовремя его книга “Мастер и город” (написана к началу 1990-х, издана в 2001-м), посвященная в том числе влиянию жанров массовой культуры на творчество Булгакова, — возможно, современное книге булгаковедение выглядело бы немножко иным.
Собственно, детская литература долгое время пребывала на тех же жанровых и тематических “задворках”, несправедливо и обидно обойденных вниманием большой науки. Петровский, по сути, сделал для советской литературной сказки то, что сделал Пропп для сказки фольклорной, — предложил ключ к ее прочтению. Ключ, открывающий очень многое. “Детсколитературоведам”, которые захотят им воспользоваться, есть о чем сказать: достойны своего Петровского и “Три толстяка” Олеши, и “Кондуит и Швамбрания” Кассиля, и “Республика ШКИД” Пантелеева и Белых… Читатель легко дополнит этот список.
В последнее время появились работы, авторы которых идут по пути, предложенному Петровским. Например, один из участников недавно изданного “детского сборника” (“Статьи по детской литературе и антропологии детства”, М., ОГИ, 2003) А. Ефремов посвятил свое исследование выявлению евангельского подтекста в “Школе” Гайдара — уже после того, как Петровский написал о евангельских мотивах в “Сказке о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий” Маяковского. В том же сборнике опубликована работа Н. Гуськова о “первом советском бестиарии” — стихотворном цикле Маршака “Детки в клетке”, по проблематике и способу анализа очень близкая к “маршаковской” главе книги Петровского — “Странный герой с Бассейной улицы”. Можно и другие работы назвать.
Во вступительном слове к нынешнему изданию Мирон Петровский говорит, что будут правы те читатели, которые догадаются о лирической основе этих историко-литературных очерков. Мысль о скрытом лиризме “нелирических” книг (который Мирон Петровский находит у Маяковского, у Маршака, у Волкова… — да у кого только не находит!) следует, кажется, переадресовать самому автору. Некоторое указание на это есть и в первом издании “Книг нашего детства”. Лиризм скрыт в месте самом заметном: на обложке. Там художником Ю. Сковородниковым изображена сценка: луч верхнего света (театральный прожектор? уличный фонарь? или, может, просто лампочка под абажуром?) выхватывает из коричневатой полутьмы группу: в центре на стуле сидит маленький мальчик, погруженный в чтение большой — больше его самого — книги, видимо, очень увлекательной. Вокруг стоят Лев, Крокодил, Буратино, девочка Элли и Железный Дровосек. Они смотрят на ребенка с интересом, надеждой и любопытством. Может быть, это портрет маленького Мирона Петровского, читающего первую книгу своего детства?
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2007/5/...









Не тот башмачок. Учительская газета.30.7.64 (о научной фантастике как литературном жанре)
***
Чему учит научная фантастика.
Семья и школа. – 1965. – № 4. – С. 33-35
***
Мирон Петровський. Наукова фантастика: чтиво чи література // Зміна, 1964, №5 – с.10-11
http://archivsf.narod.ru/1953/zmina/index...
Портал — Архив фантастики
www.archivsf.narod.ru/2004/portal/index.htm
Солнечная машина. Эдвин Задорожный, директор Киевской книжной ярмарки «Мэдвин». Булгаковская премия. Дмитрий Быков, Мирон Петровский ...
Лурье Самуил Аронович — Архив фантастики
archivsf.narod.ru/1942/samuil_lurye/index.htm
То же: [Послесловие] // Мирон Петровский. Книги нашего детства. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2008 – с.416-421. Из переписки Л. К. Чуковской ...
Грин Александр Степанович, Творчество автора — Архив фантастики
Феодосия-Москва: Издательский дом Коктебель, 1996 – с.184-187; Мирон Петровский. Романс и феерия. О происхождении сюжета «Алых парусов» А. Грина
archivsf.narod.ru/1880/alexander_grin/biblio_07.htm
***
Гуцульская поэма//Учительская газета.07.01.65 (о фильме С. Параджанова "Тени забытых предков")
***
Тринадцатый критик//Новый мир.№1/1969,с.236-238 (рец. на книгу Г. Гуревич. Карта Страны Фантазий. М.Искусство.1967
***
Долгое путешествие Жюля Верна //Трудовая жизнь. январь 1978
***
Мирон Петровский. Крокодил в Петрограде
Мирон Петровский. Сказка-митинг, сказка-плакат
Мирон Петровский. Странный герой с Бассейной улицы
Мирон Петровский. Что отпирает "Золотой ключик"?
Мирон Петровский. Правда и иллюзии страны Оз
Мирон Петровский. Примечания
***
Мирон Петровский. Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова
Мирон Петровский. Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова
Мирон Петровский. Примечания
https://fantlab.ru/search-works?q=%D0%BF%...
***
Петровский Мирон. Уже написан Бендер...| | Журнал «Литература» № 13/1997 с.2-3
то же: Двенадцать стульев [Text] : роман / Ильф И.А., Петров Е.П. — М. : АСТ:Олимп, 2002. — 512 с. — (Школа классики.Книга для ученика и учителя). — ISBN 5-17-010779-Х с. 409-418
*****
Мирон Петровский (биобиблиография). Киев: Издательский дом А+С, 2007. 84 с. Составитель Юлия Веретенникова. Под редакцией Степана Захаркина и Андрея Пучкова.

уже написан Вертер