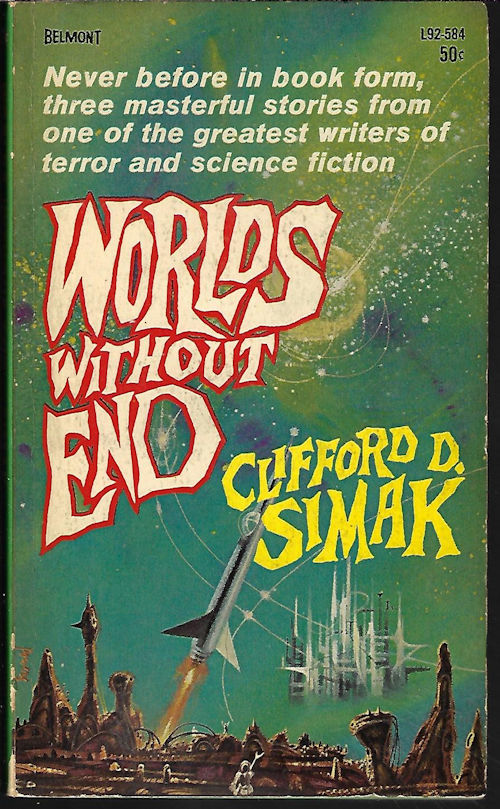Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, жители Фантлаба! Выкладываю перевод небольшого эссе Фрица Лейбера "Литературный Коперник", которое посвящено творчеству Говарда Филлипса Лавкрафта. Надеюсь оно будет интересно и полезно.

Литературный Коперник
Фриц Лейбер-мл.
I
Говард Филлипс Лавкрафт был Коперником в жанре ужасов. Он сместил фокус сверхъестественного ужаса с человека, его маленького мира и его богов — на звёзды и чёрные, неисследованные бездны межгалактического пространства. Чтобы сделать это эффективно, он создал новый тип «страшного рассказа» и новые методы его повествования.
В Средние века и долгое время после них объектом сверхъестественного страха человека был Дьявол, вместе с легионами проклятых и сонмами мёртвых — созданий, привязанных к земле и антропоморфных. Писатели столь разные, как Данте и Чарльз Метьюрин, автор «Мельмота Скитальца», умели пробуждать у читателей ужас, играя именно на этом страхе.
С расцветом научного материализма и упадком — по крайней мере, наивной — веры в христианскую теологию, жуть от Дьявола быстро поблекла. Сверхъестественный страх человека лишился определённого объекта. Писатели, стремившиеся пробудить этот страх, беспокойно обращались к другим объектам, старым и новым.
Ужас перед мёртвыми оказался чувством несколько более живучим, чем страх перед Дьяволом и проклятыми. Это обеспечило необходимую почву для жанра историй о привидениях, умело использованного Монтегю Родсом Джеймсом и другими.
Артур Мейчен ненадолго направил сверхъестественный ужас человека в сторону Пана, сатиров и иных странных рас и божеств, которые символизировали для него дарвиновско-фрейдистского «зверя» в человеке.
Ранее Эдгар Аллан По сосредоточил сверхъестественный ужас на чудовищном — в человеке и в природе. Его завораживали ненормальные психические и физиологические состояния, равно как и грозная мощь стихий, природные катастрофы и географическая неизвестность.
Элджернон Блэквуд искал объект для ужаса прежде всего в новых культах оккультизма и спиритуализма, с их утверждением сверхъестественной силы мыслей и чувств.
Тем временем, однако, возник новый источник литературного материала: пугающе огромная и загадочная вселенная, открытая стремительно развивающимися науками, в особенности астрономией. Вселенная, состоящая из световых лет и световых тысячелетий чёрной пустоты. Вселенная, содержащая миллиарды солнц, многие из которых, предположительно, окружены планетами, населёнными формами жизни, шокирующе чуждыми человеку и, вполне вероятно в некоторых случаях, бесконечно более могущественными. Вселенная, пронизанная невидимыми силами, доселе неведомыми человеку, такими как ультрафиолетовые лучи, рентгеновские лучи — и кто скажет, сколькими ещё? Одним словом, вселенная, в которой неизвестное имело неизмеримо больший масштаб, чем в маленькой хрустальной сфере Аристотеля и Птолемея. И притом — вселенная реальная, подтверждённая научно взвешенными фактами, а не просто кошмар мистиков.
Писатели вроде Герберта Уэллса и Жюля Верна нашли мощный источник литературного вдохновения в простом изображении человека на фоне этой новой вселенной. Из их усилий родился жанр научной фантастики.
Говард Филлипс Лавкрафт не был первым автором, кто разглядел в этой новой вселенной идеальный объект для сверхъестественного страха человека. У.Х. Ходжсон, По, Фитц-Джеймс О’Брайен и Уэллс тоже улавливали эту возможность и использовали её в некоторых своих рассказах. Но главное и систематическое достижение принадлежало Лавкрафту. Ко времени завершения своего творческого пути он прочно связал эмоцию потустороннего ужаса с такими понятиями, как космическое пространство, граница космоса, инопланетные сущности, неведомые измерения и возможные вселенные за пределами нашего пространственно-временного континуума.
Успех Лавкрафта не пришёл в одночасье. Новая концепция «страшного рассказа» не родилась в его сознании в готовом виде. В ранних произведениях он экспериментировал с дансенианской линией, а также написал ряд эффектных рассказов в духе По, таких как «Показания Рэндольфа Картера», «Изгой», «Холодный воздух» и «Гончая». Он разделял ужас Мейчена перед человеческим зверем и выразил его в «Притаившемся ужасе», «Крысах в стенах», «Кошмаре в Ред-Хуке» и «Артуре Джермине». Хотя даже в этих коротких историях мы находим намёки на новую концепцию: гигантские формы жизни из прошлого Земли в «Дагоне» и связь безумия человека с появлением новой звезды в «По ту сторону сна». Но с «Зовом Ктулху» линия развития становится чётко обозначенной, о чём свидетельствуют первые же предложения: «Самым милосердным на свете я считаю неспособность людского разума соотнести все, что в нем содержится. Мы обитаем на мирном островке невежества посреди черных морей бесконечности, и мы не предназначены для того, чтобы ходить в дальние плавания. Науки, каждая из которых тщится в собственном направлении, до сих пор вредили нам мало; но когда-нибудь единение разрозненных знаний откроет такие ужасающие виды на действительность и на наше страшное положение в ней, что мы либо сойдем с ума от сего откровения, либо убежим от смертоносного света к покою и безмятежности нового темного века».
Некоторое время Лавкрафт склонялся к смешению чёрной магии и других традиционных источников ужаса с кошмарами, проистекающими исключительно из новой научной вселенной. В «Данвичском кошмаре» потусторонние создания побеждаются с помощью заклинаний, в то время как в «Грёзах в ведьмовском доме» колдовство и новая эйнштейновская вселенная существуют бок о бок. Но когда мы доходим до «Шепчущего во тьме», «Хребтов безумия» и «За гранью времен», то обнаруживаем, что внеземные сущности сами по себе вполне способны пробудить в нас весь наш сверхъестественный ужас, без каких бы то ни было средневековых атрибутов. Белая магия и крестное знамение бессильны против них, и лишь случайное стечение пространства и времени — проще говоря, слепая удача — спасает человечество.
Между прочим, стоит отметить, что Лавкрафта, как и По, завораживали грандиозные природные катастрофы и новые научные открытия и исследования, что вполне объяснимо для человека, избравшего космический ужас своей темой. Вполне вероятно, что сообщения о таких событиях породили многие из его рассказов. «Шепчущий во тьме» начинается с наводнений в Вермонте 1927 года, и можно проследить и другие возможные связи: сообщения о подводных землетрясениях и «Дагон» с «Зовом Ктулху»; затопление лесных массивов искусственным водохранилищем и «Цвет из иных миров»; угроза сноса старых складов на Саут-Уотер-стрит в Провиденсе и стихотворение «Кирпичный ряд», датированное 7 декабря 1929 года, которое, возможно, стало зародышем великого сонетного цикла Лавкрафта «Грибы с Юггота», написанного между 27 декабря 1929 и 4 января 1930 года; региональный упадок и вырождение и «Притаившийся ужас» с «Тенью над Иннсмутом»; разрушения от немецкой подводной войны и «Храм»; полярные исследования и «Хребты безумия»; открытие Клайдом Томбо планеты Плутон в 1930 году и «Шепчущий во тьме», где это открытие обыгрывается и который был написан в том же году.
Большой жалости достойно то, что Лавкрафт не дожил до беспрецедентного урагана в Новой Англии 1938 года, когда морские воды вторглись в центр его родного Провиденса, сопровождаемые сокрушительным ветром и ливнем. Какую бы историю он в конечном счёте извлёк из этого!
II
Вселенная современной науки порождала в творчестве Лавкрафта ужас более глубокий, чем тот, что проистекал от одних лишь её необъятных просторов и весьма вероятных чуждых и могущественных не-человеческих обитателей. Ибо главная причина, по которой человек страшится вселенной, открытой материалистической наукой, в том, что это — место бесцельное и бездушное.
Цитируя «Серебряный ключ» Лавкрафта, человек едва выносит осознание того, что «космос бесцельно вращается, переходя из ничто в нечто и из нечто обратно в ничто, не внемля и не ведая о желаниях или существовании разумов, что на секунду вспыхивают тут и там во тьме».
В личной жизни Лавкрафт встретил вызов этого отвратительного прозрения, укрывшись в традиционализме, в культивации испытанных временем человеческих обычаев и мифов — не потому, что они истинны, а потому, что человеческий разум к ним привык и потому находит в них некое утешение и опору. Признавая, что единственный смысл в космосе — это тот, что человек в него вкладывает, Лавкрафт лелеял прекрасные человеческие грёзы, все ветхие вещи и незапятнанные воспоминания детства. Это ясно изложено в «Серебряном ключе», рассказе, в котором Лавкрафт представляет свою личную философию жизни.
В главном течении сверхъестественных историй Лавкрафта ужас перед механистической вселенной обрёл форму в виде той впечатляющей иерархии чуждых существ и богов, обычно именуемой «Мифы Ктулху», — собрания существ, чьи странные атрибуты отражают многообразные среды вселенной и чьи фантастические имена являются передачей не-человеческих слов и звуков. Они включают в себя Древних Богов, или Богов Земли, Иных Богов, или Высших Богов, и разнообразные сущности из далёких времён, планет и измерений.
Хотя они происходят из того периода, когда Лавкрафт смешивал в своих рассказах чёрную магию и был увлечён дансенианскими пантеонами, я полагаю ошибкой считать существ из мифов Ктулху утончёнными эквивалентами сущностей христианской демонологии или пытаться разделить их на зеркальные зороастрийские иерархии добра и зла.
Большинство сущностей в мифах Ктулху враждебны или, в лучшем случае, жестоко безразличны к человечеству. Возможно, благосклонные Боги Земли никогда не упоминаются прямо, за исключением Ноденса, и постепенно исчезают из рассказов. В «Грёзах в ведьмовском доме» они изображены как относительно слабые и немощные, символы конечной слабости даже человеческих традиций и грёз. Вероятно, Лавкрафт использовал их лишь для того, чтобы объяснить, почему более многочисленные враждебные сущности ещё не захватили человечество, и чтобы предоставить источник заклинаний, с помощью которых земляне могли бы в какой-то степени защищаться, как в «Данвичском кошмаре» и «Истории Чарльза Декстера Варда». В более поздних рассказах, как мы уже упоминали, Лавкрафт не оставляет человечеству никакой защиты, кроме удачи, против неизвестного.
В отличие от Древних Богов, Иные Боги представлены как могущественные и ужасные, но при этом — странный парадокс! — слепые, безгласные, тенебросные, безумные («Грёзы в ведьмовском доме»).
Из Иных Богов Азатот — верховное божество, занимающее наивысший трон в иерархии Ктулху. Никогда не возникает и тени сомнения, что он — просто чуждое существо с далёкой планеты или из измерения, вроде Ктулху или Йог-Сотота. Он, без сомнения, «бог», и притом величайший. Однако, когда мы спрашиваем, что это за бог, мы обнаруживаем, что он — слепой, идиотский бог, «...безумный демон-султан... чудовищный хаос».
Подобный пантеон и подобное верховное божество могут символизировать лишь одно: бесцельную, бессмысленную, но всесильную вселенную материалистической веры.
А Ньярлатотеп, ползучий хаос, — его вестник; не безумный, как его повелитель, но злобно разумный, изображённый в «Грёзах в ведьмовском доме» в образе учтивого фараона. Легенда о Ньярлатотепе — одно из самых интересных творений Лавкрафта. Она появляется и в поэме в прозе, и в сонете того же названия. Во времена широких социальных потрясений и нервного напряжения является из Египта некто, похожий на фараона. Его почитают феллахи, «дикие звери следовали за ним и лизали его руки». Он посещает многие земли и читает лекции с причудливыми псевдонаучными демонстрациями, приобретая множество последователей, подобно Калиостро или иному подобному шарлатану. За этим следует прогрессирующий распад человеческого разума и мира. Возникают беспричинные паники и странствия. Природа выходит из берегов. Происходят землетрясения, отступающие моря обнажают города, поросшие сорняками, наступает конечное гниение и распад. Земля гибнет.
Что же Ньярлатотеп «означает»? То есть, какие значения можно наиболее уместно в него вложить, допуская, что Лавкрафт, создавая его, мог и не «вкладывать» ничего сознательно. Одна из возможностей — фараон-шарлатан олицетворяет насмешку вселенной, которую человек никогда не сможет понять или покорить. Другая — он символизирует откровенно коммерческий, саморекламирующийся, стяжательский мир, который Лавкрафт презирал (Ньярлатотеп всегда имеет эту ауру продавца, это наглое презрение). И ещё третья возможность — Ньярлатотеп представляет саморазрушительный интеллектуализм человека, его ужасающую способность видеть вселенную такой, какова она есть, и тем самым убивать в себе все наивные и прекрасные грёзы.
В этой связи стоит отметить, что Лавкрафт, до последнего месяца своей жизни неутомимый учёный и исследователь, был воплощением единственного благородного чувства, которое научный материализм дарует человеку: интеллектуального любопытства. Он также выражал эту страсть в своих сверхъестественных рассказах. Его герои часто столь же тянутся к неизвестному, сколь и страшатся его. Содрогаясь от ужасов, что могут там таиться, они всё же не могут противиться позыву заглянуть за край пространства. «Шепчущий во тьме», возможно, его величайший рассказ, примечателен тем, как ужас и очарование от чуждого поддерживаются в равной мере почти до самого конца.
Это алхимическое стремление к «сокрытому знанию» было одной из сил, что побудили Лавкрафта создать ту серию замечательных вымышленных, но обманчиво реалистичных «тайных книг», главной среди которых является «Некрономикон», занимающий видное место в его поздних рассказах.
III
Зрелый метод Лавкрафта в повествовании ужасов стал естественным следствием важности новой научной вселенной в его творчестве, ибо это был метод научного реализма, приближающийся в некоторых его поздних вещах («Хребты безумия» и «За гранью времен») к точности, объективности и вниманию к деталям, характерным для отчёта в научном журнале. Большинство его рассказов — это мнимые документы, по необходимости написанные от первого лица. Этот приём обычен для литературы ужасов, что видно по «Рукописи, найденной в бутылке» По, «Она» Хаггарда, «Дракуле» Стокера и многим другим, но мало кто из писателей относился к нему столь же серьёзно, как Лавкрафт.
Он придавал большое значение тому, что у рассказчика должна быть крайне веская причина описывать свой опыт и был изобретателен в создании таких мотивов: оправдательная исповедь в «Тварь на пороге» и «Показаниях Рэндольфа Картера»; предупреждение в «Шепчущий во тьме» и «Хребтах безумия»; попытка рассказчика прояснить собственные мысли и принять решение в «Тени над Иннсмутом»; научное обобщение странной цепи событий в «Истории Чарльза Декстера Варда» и «Скиталец тьмы».
Научно-реалистичный элемент в стиле Лавкрафта медленно вызревал в писателе, изначально склонном к высокопарной и поэтичной прозе с почти византийским обилием прилагательных. Переход никогда не был полностью завершён, и, как любой прогресс, он сопровождался потерями и ограничениями. К разочарованию некоторых читателей, которые могут также испытывать нетерпение из-за растущего объёма рассказов (неизбежного в научных отчётах), в, скажем, «За гранью времен» заметно меньше словесной магии, чем в «Данвичском кошмаре», хотя первая история обладает большим единством и техническим совершенством. И сама ограниченная, учёная жизнь Лавкрафта едва ли готовила его к роли всеобъемлющего реалиста. Он всегда сохранял в своих произведениях джентльменскую сдержанность и лучше всего изображал те типы характеров, которые понимал и уважал, таких как учёные, новоанглийские фермеры и горожане, искренние и одинокие художники; в то же время проявляя меньше симпатии и проницательности в изображении бизнесменов, интеллектуалов, фабричных рабочих, «крутых парней» и прочих, признанно наглых, раскованных и зачастую грубых обитателей наших современных городов.
В стиле Лавкрафта было три важных элемента, которые он эффективно использовал как в свой ранний, поэтический период, так и позже, в более объективной манере.
Первый — это приём подтверждения, а не откровения. (Я обязан этой точной формулировкой Генри Каттнеру.) Иными словами, концовка истории приходит не как неожиданность, а как окончательный, давно ожидаемый «убедительный довод». Читатель знает, и должен знать, что произойдёт, но это лишь подготавливает и усиливает его озноб, когда рассказчик предоставляет последнее неопровержимое доказательство. В «Истории Чарльза Декстера Варда» читатель почти с первой страницы знает, что Варда подменил Джозеф Карвен, однако рассказчик не утверждает этого однозначно до последнего предложения книги. Это не значит, что Лавкрафт никогда не писал историй с неожиданной развязкой. Напротив, он использовал её в «Скиталец тьмы» и весьма эффективно применил в «Изгое». Но он действительно всё больше склонялся к менее поразительному, но подчас более впечатляющему типу подтверждения.
Столь тесно связанным с его использованием подтверждения, что является лишь другой его гранью, стало применение Лавкрафтом терминальной кульминации — то есть истории, в которой высшая точка и финальное предложение совпадают. Кто забудет верховный холод фраз: «Но, клянусь Богом, Элиот, это была фотография с натуры», или «Это был его брат-близнец, но он был больше похож на отца, чем он сам», или «Вместо этого то были буквы нашего привычного алфавита, складывающиеся в слова английского языка моим собственным почерком», или «… лицо и руки Генри Уэнтворта Эйкли».
Использование терминальной кульминации заставило Лавкрафта разработать особый тип повествования, в котором пояснительный материал и возвращение к равновесию ловко вставлены до финала, пока напряжение всё ещё нарастает. Это также потребовало очень тщательной структуры, где всё выстраивается от первого до последнего слова.
Лавкрафт усиливал эту структуру тем, что можно назвать оркестрованной прозой — предложениями, которые повторяются с постоянным добавлением более весомых прилагательных, наречий и фраз, подобно тому как в симфонии мелодия, введённая одним деревянным духовым, в конце концов громоподобно исполняется всем оркестром. «Показания Рэндольфа Картера» даёт один из простейших примеров. В нём, по порядку, встречаются следующие фразы, относящиеся к луне: «… убывающий серп луны… бледный, убывающий серп луны… мертвенно-бледный, подсматривающий серп луны… проклятая убывающая луна».
Более тонкие и сложные примеры можно найти в длинных рассказах. Порой повторяются не только предложения, но и целые разделы, с растущим облаком атмосферы и деталей. История может быть сначала кратко набросана, затем рассказана частично, с некоторыми умолчаниями, и изложена полнее, когда рассказчик наконец преодолевает своё нежелание или отвращение сообщить точные детали пережитого им ужаса.
Все эти стилистические элементы закономерно работали на то, чтобы рассказы Лавкрафта становились длиннее и длиннее, с растущей сложностью источников ужаса. В «Грёзах в ведьмовском доме» источники ужаса множественны: «…Лихорадочные дикие сны – лунатизм – слуховые иллюзии – тяготение к точке в небе – а теперь и подозрение в безумном снохождении…» В то время как в «Хребтах безумия» происходит переход, где сами страшимые сущности становятся боящимися; автор показывает нам ужасы, а затем отодвигает занавес чуть дальше, позволяя нам мельком увидеть ужасы, которых страшатся даже эти ужасы!
Стремление увеличивать объём и сложность повествования нередко среди писателей ужасов. Его можно сравнить с тягой наркомана ко всё большим и большим дозам — и это сравнение не беспочвенно, поскольку главная цель сверхъестественного рассказа — пробудить в читателе единственное чувство потустороннего ужаса, а не обрисовать характер или прокомментировать жизнь. Приверженцы этого жанра литературы порой способны принять дозы, которые могли бы истощить или вызвать отвращение у среднего человека. Каждый читатель должен сам для себя решить, какую длину рассказа он может вынести, чтобы его чувство ужаса не ослабевало. Лично для меня всё написанное Лавкрафтом, включая пространные «Хребты безумия», можно читать с постоянно нарастающим волнением.
Ибо следует помнить, что сколь бы ни увеличивал Лавкрафт объём, размах, сложность и мощь своих произведений, он ни разу не терял контроля и не поддавался импульсу писать безрассудно, нагромождая один леденящий душу эпизод на другой без должной подготовки и внимания к настроению. Напротив, он стремился к большей сдержанности, к оттачиванию внутренней цельности и логики своих историй и зачастую предлагал альтернативные, обыденные объяснения для призываемых им сверхъестественных ужасов, позволяя читателю самому делать пугающие выводы, а не сталкиваться с horror лицом к лицу. Так что большинство его рассказов соответствуют условиям, изложенным рассказчиком «Шёпота во тьме»: «Помни твёрдо, что я не видел в конце никакого визуального ужаса… Я и сейчас не могу доказать, был ли прав или нет в своём чудовищном умозаключении», — или рассказчиком «Тени из вечности»: «Есть основания надеяться, что мой опыт был целиком или отчасти галлюцинацией… для которой, действительно, существовали веские причины».
Странным образом развитию научного реализма Лавкрафта сопутствовала, казалось бы, противоречащая ему тенденция: создание вымышленного фона для его рассказов, включающего новоанглийские города вроде Аркхэма и Иннсмута, учреждения вроде Мискатоникского университета в Аркхэме, полутайные чудовищные культы и растущую библиотеку «запретных» книг, таких как «Некрономикон», содержащих чудовищные тайны о настоящем, будущем и прошлом Земли и вселенной.
Любой писатель, даже последовательный реалист, может выдумывать имена людей и мест — чтобы избежать клеветы или потому что его творения являются гибридами, сочетающими черты многих людей или мест. Некоторые же вымыслы Лавкрафта — совсем иного, более серьёзного свойства, определённо искажающие «реальный» мир, служащий фоном для многих его поздних сверхъестественных историй. Не только «Некрономикон», «Невыразимые культы» фон Юнцта и другие тома предполагаются реально существующими (в немногих экземплярах, под замком, как тщательно оберегаемые секреты), но и потрясающая, отчасти теософская история, которую они рассказывают о не-человеческих цивилизациях в прошлом Земли и об ужасных обитателях других планет и измерений, воспринимается всерьёз учёными и исследователями, населяющими рассказы Лавкрафта. Эти личности во всех прочих отношениях весьма реалистично мыслят, но, узрев запретное знание, они как правило более восприимчивы к космическому ужасу, чем обычные люди. Трезвые и степенные реалисты, они тем не менее знают, что живут на краю страшной и ненасытной бездны, не ведомой простым смертным. Это знание приходит к ним не только в результате странных происшествий, в которые они вовлечены, но является частью их интеллектуального багажа.
Эти «пробудившиеся» учёные состоят преимущественно на факультетах вымышленного Мискатоникского университета. Действительно, сказочная история этого учреждения, насколько её можно проследить по рассказам Лавкрафта, проливает интересный свет на развитие этой тенденции в его творчестве.
В июне 1882 года близ Аркхэма упал странный метеорит. Трое профессоров из Мискатоника прибыли для расследования и обнаружили, что он состоит из неуловимого вещества, не поддающегося анализу. Несмотря на этот опыт, они отнеслись с большим скепсисом, когда позже услышали о жутких переменах на ферме, где упал метеорит, и, презирая то, что они считали народными суевериями, держались в стороне в течение того года, когда ужасный распад постепенно уничтожил ферму и её обитателей. Иными словами, они вели себя так, как, по общему убеждению, и должны вести себя профессора, — нетерпимо к призрачным событиям и оккультным теориям и, конечно, не проявляя никаких признаков того, что они читали «Некрономикон» (если его экземпляр был тогда в Мискатонике) с каким-либо сочувствием. Показательно, что рассказ, в котором происходят эти события, «Цвет из иных миров», хвалил Эдмунд Уилсон, обычно неблагосклонный критик.
Но в течение последующих двадцати пяти лет, возможно, как коварный результат странного падения метеорита, в Мискатоникском университете и в интеллектуальном багаже по крайней мере некоторых его преподавателей произошла перемена. Ибо когда в Мискатоник поступил юный вундеркинд Эдвард Пикман Дерби, он смог на время получить доступ к экземпляру «Некрономикона» в библиотеке; а Натаниэль Уингейт Пизли, политэконом, во время своей пятилетней амнезии, начавшейся 14 мая 1908 года, делал не поддающиеся расшифровке пометки на полях того же тома. Ещё позже незнакомца, подобранного полумёртвым в гавани Кингспорта на Рождество (кажется, в 1920 году), допустили к просмотру ужасной книги в госпитале Святой Марии в Аркхэме.
В двадцатые годы среди студентов появилась дикая, декадентская компания («потерянное поколение» Мискатоника, по-видимому), члены которой отличались сомнительной моралью и, по слухам, практиковали чёрную магию. А в 1925 году к «Некрономикону» вновь обратились — на этот раз неотесанный и преждевременно развитый гигант Уилбур Уэйтли. Он попытался взять книгу на время, но библиотекарь Генри Армитидж благоразумно отказал ему.
В 1927 году (когда проводили изыскания для нового водохранилища Аркхэма) талантливый молодой математик Уолтер Гилман также получил временный доступ к тому. Он нашёл ужасный конец в проклятом пансионе, но успел передать Мискатонику странное, шипастое изваяние, созданное из неизвестных элементов и позднее выставленное в музее Мискатоникского университета. Впрочем, это был не первый неземной экспонат музея, который также гордился несколькими странно сплавленными и фантастически «рыбными» золотыми украшениями из Иннсмута.
В конце двадцатых Асенат Уэйт, пленительная дочь известного иннсмутского колдуна, проходила в Мискатонике курс средневековой метафизики, и можно не сомневаться, что она не упустила возможности покопаться в ещё более сомнительных областях знания.
В целом, конец двадцатых стал периодом, особенно богатым на призрачные происшествия в Аркхэме и его окрестностях; в особенности 1928 год, который в этой связи можно назвать «Великим годом», и в ещё большей степени сентябрь 1928 года, который можно окрестить «Великим месяцем».
Можно предположить, что несчастный Гилман погиб в том году и что Асенат Уэйт была тогда среди студентов, но эти предположения — лишь начало. Консультация с «Журналом Американского психологического общества» показывает, что Н.У. Пизли тогда начал публиковать серию статей, описывающих его странные сны о не-человеческом прошлом Земли. А шестого мая преподаватель литературы Альберт Н. Уилмарт получил тревожное письмо от вермонтского учёного Генри У. Эйкли о внеземных созданиях, таящихся в местных лесах. В августе Уилбур Уэйтли ужасно погиб, пытаясь проникнуть в библиотеку Мискатоника и похитить «Некрономикон». Девятого сентября брат-близнец Уилбура, унаследовавший черты своего не-человеческого отца в ещё большей степени, вырвался на свободу близ Данвича, Массачусетс.
Двенадцатого сентября Уилмарт, соблазнённый подложным письмом, отправился навестить Эйкли в Вермонте. В тот же день доктор Армитидж узнал о появлении близнеца Уилбура.
Той ночью Уилмарт в ужасе бежал с фермы Эйкли. Четырнадцатого Армитидж с двумя коллегами выехал в Данвич и на следующий день сумел уничтожить Данвичский кошмар.
Поразительно думать, что две столь грандиозные цепи сверхъестественных событий достигли своей кульминации почти в одно и то же время. Хочется представить, как исступлённый Армитидж разминулся с охваченным тревогой Уилмартом, когда тот спешил на поезд. (Наиболее очевидное объяснение в том, что Лавкрафт подготовил довольно подробную хронологию для «Данвичского кошмара», написанного в 1928 году, а затем использовал те же даты при построении сюжета «Шепчущий во тьме», написанного в 1930 году, без каких-либо иных рассказов между ними.)
После волнений «Великого месяца» почти любые события кажутся антиклимаксом. Однако следует упомянуть Антарктическую экспедицию Мискатоника 1930-31 годов; раскрытие тайн ведьмовского дома в марте 1931 года, пополнившее коллекции музея; и Австралийскую экспедицию 1935 года. В обеих экспедициях участвовал профессор геологии Уильям Дайер, который также был осведомлён о ужасном опыте Уилмарта и потому, возможно, может претендовать на звание самого вовлечённого в сверхъестественные события члена факультета.
Можно лишь строить догадки, почему Лавкрафт создал и столь интенсивно использовал Мискатоникский университет и «Некрономикон». Несомненно, преподавательский состав Мискатоника представляет собой своего рода лавкрафтовскую утопию — высокоинтеллектуальных, эстетически чувствительных, но приверженных традициям учёных.
Что касается «Некрономикона», то, похоже, Лавкрафт использовал его как чёрный ход или потайную калитку в царства чудес и мифов, главные подступы к которым были перекрыты его принятием новой вселенной материалистической науки. Он позволял ему сохранять в рассказах хотя бы отдельные фрагменты той поэтичной, звучной и красочной прозы, которую он любил, но которая плохо подходила его позднему, научно-реалистичному стилю. Он предоставлял ему готовую тучу зловещей атмосферы, которую в ином случае пришлось бы заново выстраивать для каждого рассказа. Он ярко иллюстрировал его коперниканскую концепцию безмерности, странности и бесконечных жутких возможностей новой научной вселенной. И, наконец, он был ключом к более пугающему, но и более захватывающему «реальному» миру, нежели тот слепой и бесцельный космос, в котором ему довелось прожить свою жизнь.
Кстати, другие воспоминания о ГЛФ из сборника "Something About Cats and Other Pieces", можно почитать здесь.
P.S. Если вдруг у кого есть тексты из этого сборника и он готов ими поделиться со мной, то я бы в следующий раз выложил их переводы.