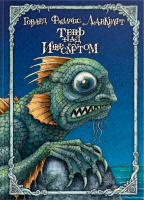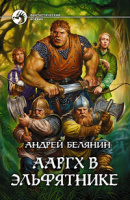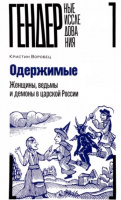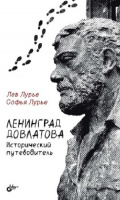Каждый месяц Алекс Громов рассказывает о 9 книгах
«Я бросил взгляд на капитана. Большую часть дня он проводил в горизонтальном положении: растянувшись на палубе рядом со штурвалом, он, зевая, подергивал привязанную к большому пальцу ноги веревку, которая удерживала на месте штурвал. Я не люблю насилие и обладаю бесконечным запасом терпения — в моем ремесле терпение окупается сторицей — но в тот миг мне страшно хотелось выбросить жирного ублюдка за борт. У Аракса не зря было еще одно название — Город Множества Дверей. В городе, где можно прикончить человека и продать не только имущество мертвеца, но и его призрак, убийцы процветают. На улицах Аракса после захода солнца было небезопасно: их патрулировали не законники и не солдаты, а бандиты и те, кого аркийцы любовно называли «душекрадами». И дело даже не в том, что у них нет законов — просто следить за их выполнением в таком огромном городе невозможно. Я обливался потом. Я много лет держался подальше от Арка; мне не хотелось работать в городе, жители которого славятся своей кровожадностью и коварством. Как говорят воры Дальних Краев, аркиец платит не серебром, а сталью».
Бен Гэлли. Гонка за смертью
В темном фэнтези обычно творятся темные дела. Жил-был Кальтро Базальт, ловкий прохиндей, умелый вор и лучший мастер-замочник в Дальних Краях. В романе он прибывает на корабле в Аракс, Город Бесчисленных Душ на встречу, на которую его пригласили в письме. Но судно приплыло в город не днем, как обещал его капитан, а после захода солнца, когда город становиться смертельно опасным. Но Кальтро, которому не дали возможности задержаться на корабле, некуда было деваться, он пошел в город, за ним началась погоня, которая закончилась тем, что ему в спину всадили стальной клинок, затем последовали еще четыре удара. И главный герой романа превратился в покойника. Тело со всеми вещами было продано убийцами и отдано чародеям, которые опустили его в колодец.
Ну а дальше начинаются те самые приключения героя-призрака в том самом месте, где на призраках, большинство из которых оказывается в рабстве, делают деньги. Большие деньги всякими хитроумными способами. В Арктианской империи идет борьба за власть, и принцесса хочет стать большим, тем более, что ее отец-император правит из своего бронированного Укрытия. Главный герой не собирается оставаться ни бесправным рабом, ни расходной пешкой в чужой игре. Он изворотлив и неглуп, и хочет дожить до продолжения, которое уже есть. Но помимо смертельных интриг, имеются мрачные загадочные персонажи, а сама империя по стилю напоминает Древний Египет, хотя тогдашний культ мертвых отличается от хозяйственного использования мертвых-призраков в романе.
«Я почувствовал, что призраки вокруг меня вздрогнули. Они замерли. Воцарилась мертвая тишина — простите за каламбур. Мой крик затих. Его эхо не вернулось ко мне. Тишина была еще более безграничной, чем голоса. Даже не открывая глаза, я чувствовал на себе тяжесть их взглядов. Когда я все-таки открыл глаза, то увидел сотню призрачных лиц, обращенных в мою сторону. Каким-то образом я понял, что бесчисленное множество других людей в огромной толпе сделали то же самое. Возможно, весь океан усопших сейчас смотрел на меня. Их взгляды ни в чем меня не упрекали, не выражали никаких чувств. Они были бесстрастны, словно стеклянные шарики.
Я, как и подобает добропорядочному крассу, начал думать о том, как извиниться перед ними. Но не успел я выдавить из себя что-нибудь подходящее случаю или сообщить о том, что я тут недавно, как они заговорили снова — не все вместе, а по очереди. Первый был где-то вдалеке и бурчал что-то про голод. Второй находился поближе, но его слов я разобрать не мог. Третий оказался совсем рядом, и своим призрачным затылком я ощущал его ледяное дыхание. Вот его я услышал.
— Мы призываем замочного мастера, предвестника перемен.
— Что? — Я попытался развернуться, но толпа мне этого не позволила. Я почувствовал, что между моими ногами петляет что-то похожее на кошку. У животных тоже есть загробный мир? — Кого?
Стоявший передо мной призрак заговорил, глядя на меня через плечо. Его сломанная челюсть беспомощно повисла, однако я почему-то четко слышал его голос.
— Хаос не получит его время.
— Поток не должен захватить мир, — сказал другой, находившийся рядом с первым.
— Боюсь, что я понятия не имею, о чем вы гово…
— Ты вернешься, — загремел чей-то голос в глубине толпы. — С нашим даром.
Я попытался подпрыгнуть, но меня крепко держали.
— «Вернешься»? Да, я хочу вернуться! Понимаете, меня убили, и…
Призрак, стоявший рядом со мной, заговорил, став при этом зеленым.
— Ты будешь искать слуг хаоса. Останови их. — У этого, последнего призрака были волчьи глаза, горевшие ярким золотым огнем. — Останови их. Спаси нас. Спаси самого себя».
«Как наследнику и исполнителю завещания своего двоюродного деда, поскольку он умер бездетным вдовцом, мне надлежало просмотреть его бумаги с некоторой тщательностью; и с этой целью я перевез все его дела и ящики в свою бостонскую квартиру. Многие из материалов, которые я выявил, позднее будут опубликованы Американским археологическим обществом, но один из ящиков я счет чрезвычайно загадочным и питал к нему слишком сильно е отвращение, чтобы показывать другим.
Он был заперт, и я не находил ключа, пока не придумал осмотреть личную связку профессора, которую он всегда носил в кармане. Затем мне удалось его открыть, но когда я это проделал, то словно столкнулся с могучей и более плотной преградой. Ибо что могли означать причудливый глиняный барельеф, бессвязные записи да газетные вырезки, которые я там обнаружил?».
Говард Филлипс Лавкрафт. Тень над Иннсмутом
Сборник произведений одного из основателей самого жанра ужасов, а главное – создателя Ктулху, который стал не только литературным существом, но и популярным в интернете персонажем. В книгу включена повесть «Тень над Иннсмутом», первое и единственное сочинение Лавкрафта, которое было при его жизни выпущено отдельным изданием. Сюжет памятен каждому, кто мало-мальски знаком с творчеством Лавкрафта. Молодой человек сначала узнает о странном заброшенном городке на побережье, потом видит в музее необычную золотую тиару, привезенную из тех мест. И решает посетить городок, о котором ходят страшные слухи. От местного пьяницы он узнает невероятную историю о людях, ставших приверженцами зловещего культа и страшных морских жителях, с которыми они породнились.
«Зов Ктулху» — история о том, как находка глиняной статуэтки, изображающей странное и страшное существо, оборачивается не фантазиями нескольких безумцев, а обнаружением того, что в море действительно есть подводный город. А в нём — монстр, который ждет своего часа. Еще одно культовое произведение, «Дагон», развивает сходную тему, дополняя пугающую водную вселенную Лавкрафта и смыкаясь с «Тенью над Иннсмутом».
Также в сборник включены «Кошмар в Ред-Хуке», «Натурщик Пикмана», «Тайная напасть», «Крысы в стенах». В книге более 60 современных иллюстраций художника Ивана Иванова. Произведения представлены в новом переводе Артема Агеева
«Картина раскопок сама по себе способна была любого вывести из равновесия. Зловещие деревья, невероятно древние, могучие и столь же безобразные, склонялись надо мной колоннадой богохульного друидского капища, приглушая громовые раскаты, порывы ветра и струи дождя.
За их испещренными шрамами стволами, в неверном свете вспышек молнии высились сырые, увитые плющом стены заброшенной усадьбы, а чуть поодаль виднелся запущенный голландский сад, чьи клумбы и дорожки оскверняла белесая гадостная поросль фосфоресцирующего грибка, что явно никогда не был светолюбив».
«Опять этот Эшли поперся знакомиться к молодым ааргхам. Не помню, что ему удалось наплести в прошлый раз, но вырвался он без моей помощи, исключая двадцать восемь аналогичных случаев, когда я был просто вынужден на всех орать и спасать этого несносного хлыща от закономерной гибели.
Его полное имя — граф Эшли Эльгенхауэр-младший, он племянник (троюродный!) какой-то крупной шишки в столице. Дворянин и аристократ до мозга костей, таких никто не любит, но все восхищаются, тощий, самовлюбленный, храбрый, ничего не знающий о жизни. Вот, пожалуй, полный портрет этого писклявого куренка. А еще, по воле случая, он мой теперешний хозяин. И самое смешное, что я сейчас встану и его спасу. Кто бы знал, как мне это надоело…».
Андрей Белянин. Ааргх в эльфятнике
Когда у сказочных персонажей кончаются деньги, они отправляются в новые романы, т.е. приключения. Особенно, если на мели оказываются гномы, чьи земли не способны удовлетворить все возрастающие потребности. Выход – подзаработать на стороне. Но остальные жители Приграничья воспринимают это как личное оскорбление – лишать законной добычи остальных порой чревато для здоровья. К тому же «Светлому будущему эльфийской расы», по традиции не платящей налогов, грозит опасность. Среди новообразовавшейся команды наемников-спасателей: тот самый неправильный чересчур грамотный ааргх по прозвищу Малыш, его выпендрежный босс граф Эшли, пара тех самых гномов. Среди недругов: тайный сыск Империи (лучшие из лучших!), нехорошие орки, киллеры и злодей-чародей. Полный набор фэнтезийных штампов превращается в пародию, в которой каждый герой обладает собственной оригинальной стилистикой.
«- Малыш, я его убью? — тихо попросил старый наемник.
Я подумал и отошел в сторону, за такие слова стоило убить, это будет правильно. Гномы и эльф тоже вроде не возражали, и только граф Эшли имел на эту тему собственную точку зрения…
— Итак, мое предложение: срочно скинуться всеми имеющимися у нас на руках наличными и сообща оплатить нашему заслуженному другу строительство новой, просторной, чистой харчевни, с пристроем комнат постоялого двора, расширенной кухней и приличными комнатами для дорогих гостей на втором этаже! Кто против? Лично я — за! Вношу первый взнос, присоединяйтесь, присоединяйтесь…»
«В этом году «РосКон» проходил в тринадцатый раз. Он собрал больше трехсот гостей. Конечно, в первую очередь это были писатели-фантасты, издатели, критики и публицисты. Но это еще не все – были музыканты, кинорежиссеры, телепродюсеры и пара-тройка просто хороших людей, никогда не отказывающихся выпить.
И разговор о большом пальце был не случаен. Когда на сцену «РосКона» поднялся Сергей Лукьяненко, чтобы получить награду за свой «Новый дозор», пятый по счету, он пообещал, что будет еще и шестой, но уже последний, и спросил: «Убить Антона Городецкого или оставить в живых?» Предложил голосовать, как на гладиаторских боях – палец вниз, палец вверх. И поначалу большая часть присутствующих в зале пожелали герою смерти. Но в том-то и прелесть интерактива, что вдруг повернутые вниз пальцы поднялись. «Городецкий форева!» – кричал один из ведущих церемонии закрытия конференции Андрей Щербак-Жуков. Или это показалось? В общем, убивать героя или пожалеть – решать все-таки самому Сергею Лукьяненко.
Кстати, он в категории «Роман» получил только «серебро». Такова особенность демократических призов – голосует большинство. И у романа, который написали в соавторстве двое, больше шансов на успех, чем у индивидуального творчества, а если трое… А если под иноязычным псевдонимом скрылось чуть ли не десять человек, то успех обеспечен. Тем более что роман-то получился хорошим. «Золотой РосКон» получил роман «Кетополис. Киты и броненосцы», подписанный Грей Ф. Грин. За этим псевдонимом скрылись лучшие силы интернет-поколения русской фантастики. И кстати, сам же Лукьяненко дал им путевку в жизнь, написав несколько теплых, хоть и ироничных строк для обложки книги».
Андрей Щербак-Жуков. Поэты должны путешествовать
Книга автора, награжденного «Серебряным Росконом» и премией «Филигрань», посвящена рассказам о книжных фестивалях, конференциях, выставках и других подобных форумах. По мнению автора, важность подобных мероприятий заключается в том, что они позволяют создать единую литературную среду, в которой совмещается и знакомство с творческими находками, и обмен новостями. О том, как именно это происходит, рассказано красочно и с юмором. Рядом с именитыми книжными ярмарками на страницах представлены небольшие, но замечательно душевные встречи вдали от столичной суеты и блеска.
Описано и то, как ставшая бестселлером книга Алексея Иванова «Сердце пармы» (первоначальное название «Чердынь – княгиня гор») повлияла на нынешнее состояние самого города Чердынь и прилегающего региона. Когда-то это был значимый торговый город, а в ХХ веке важность была утрачена, и Чердынь пришла в упадок. Дорога от Перми (а это более 300 км) была похожа «на спину старого, израненного крокодила». Но потом появилась нашумевшая книга, за ней – фестиваль «Сердце пармы», и город, можно сказать, воспрянул. Кстати, парма – это местный тип леса.
Внимание автор уделяет и фантастической литературе, и актуальным современным формам самовыражения, связанным с ней. Например, косплею.
«Так называется увлечение молодых и не очень молодых людей наряжаться своими любимыми персонажами книг, комиксов и фильмов. Занятие это не такое уже детское, как может показаться на первый взгляд, – некоторые костюмы вымышленных героев стоят недешево. Кто-то их покупает готовыми, кто-то делает собственными руками. Вот, к примеру, костюм Геральта из «Саги о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского явно стоит дорого: толстая натуральная кожа, металлические заклепки, массивный меч…
Просторный зал «Футбол-Манежа» был заполнен самыми разными персонажами. Тут и карты из «Алисы в Зазеркалье», и Железный человек, и помощник Гарри Поттера домашний эльф Добби, и противник Бэтмена Джокер, и Доктор Кто, и множество всевозможных инопланетных воинов. В одном конце гремит тяжелый рок, в другом – проходят семинары…»
«На самом деле очарование Рима невозможно описать. Его можно только ощутить – всякий раз, когда осматриваешь археологический памятник римской эпохи. К сожалению, пояснительные таблички и существующие путеводители в большинстве случаев предлагают лишь самые общие сведения о повседневной жизни, сосредоточиваясь на архитектурных стилях и датировках.
Но есть один трюк, помогающий вдохнуть жизнь в места археологических раскопок. Присмотритесь к деталям: стертые ступени лестниц, граффити на оштукатуренных стенах (в Помпеях их великое множество), колеи, выбитые повозками в каменных мостовых, и потертости на порогах жилищ, оставленные не дошедшей до наших времен входной дверью.
Если вы сосредоточитесь на этих подробностях, неожиданно руины вновь наполнятся биением жизни, и вы «увидите» тогдашних людей. Именно так и была задумана эта книга: рассказ о Великой истории с помощью множества историй малых».
Альберто Анджела. Один день в Древнем Риме. Повседневная жизнь, тайны и курьезы
Куда бы вы хотели отправиться, чтобы насладиться утонченной негой и роскошью, зрелищами разврата и страсти, достойных эталонных Содома и Гоморры? Есть только один достойный вариант — добро пожаловать в императорский Рим образца 115 года н. э., время наивысшего могущества и рассвета древнего искусства. Римское жилье чаще всего представляют по красочным голливудским боевикам, которые полны роскошных жилищ и изысканных одежд. Но проверьте содержимое вашего кошелька – если оно не соответствует «околоолигархическому» уровню, то вы даже здесь обречены на прозябанье. Простой народ (что в переводе на доступный русский язык означает – небогатые люди) получают только то, что просят – «Хлеба и зрелищ!». Жизнь простых древнеримских граждан порой разнообразится то пением и речами императоров, то поджогами родного города. Увы – подавляющее большинство римлян ютилось почти в трущобах, вернее прообразе наших хрущевок, больших многоэтажных построек, но без малейшего уюта, дарованного современной техникой. Богачи жили в особняках, обычно, подобно устрицам, замкнутым в себе, подобно маленькой крепости: нет совсем окон, кроме нескольких маленьких, расположенных высоко. Знакомая нам надпись «Осторожно, собака!» расположена на мозаике и дополняется изображением злого пса. Вместо электрической или газовой плиты – печь из каменной кладки. Мебели немного, но среди ее есть уже ставшие модными складные столы. Символами богатства мраморные бюсты, серебряная посуда и бронированный сундук с железными петлями и полосками, выполняющий роль сейфа. Жители говорили на латыни, но «тенденция заключалась в том, что латынь со сменой поколений все более смягчилась, пока не появилась манера слова, общие для многих европейских языков: итальянского, испанского, португальского, французского, румынского…». В древнеримских «средних» школах дается исключительно классическое образование, без изучения естественнонаучных и технических предметов. Кстати, в имперском Риме многие (но, к сожалению – не все) умели читать и писать, в отличие от предыдущих эпох и других древних государств (например, Египта), у которых читать и писать умели только писцы, но никак не простолюдины. Поэтому уже в те времена в Риме существовали надписи и вывески, к примеру, «объявления» в храмах и этикетки на амфорах и непременные тексты на стенах лупанариев…
«Любопытный факт. Уже в римскую эпоху существует увлечение антиквариатом, то есть предметами старины и произведениями искусства древности, которые выставляются дома. Но ведь Рим того времени и есть самая что ни на есть «древность», что же могли считать ею сами римляне? Ответ дали археологи. Во время раскопок были найдены этрусские статуэтки, зеркала и кубки, уже в то время считавшиеся римлянами антикварными и ценными. Находили также и изделия из Древнего Египта. Действительно, для римлянина времен Траяна цивилизация Древнего Египта могла вполне считаться самой настоящей «древностью»: Рамзес II, к примеру, жил за тысячу четыреста лет до них! Этот временной промежуток ненамного отличается от того, который отделяет нас от того Рима, о котором идет речь у нас».
«Используя законы против наведения чар и колдовства в качестве прецедента, Петр I и его советники начали кампанию против тех, кто ложно обвинял других в колдовстве, утверждая, что стал жертвой колдовства и, следовательно, одержимости бесами. Так симуляция одержимости стала наказуемым преступлением, и впервые в российской истории возникло сомнение в возможности вторжения бесов в человеческое тело.
Проникнутые идеями Просвещения и скептицизмом в отношении сверхъестественных сил, гражданские и церковные законы требовали от православной церкви, авторитета в вопросах добра и зла, выявлять симулянтов. Законодательство, вводившее концепции достойной и недостойной бедности, аналогичным образом разделяло религиозное поведение на допустимое и мошенническое. Оно определило кликуш (женщин или мужчин, считавших себя одержимыми бесами) как шарлатанов со скрытыми мотивами, не имевшими ничего общего со злыми духами. Такое положение устраивало не всех представителей церкви, да и не всех правительственных чиновников, обязанных действовать согласно букве закона».
Кристин Воробец. Одержимые. Женщины, ведьмы и демоны в царской России
В научном издании анализируется феномен кликушества как отечественное социальное и культурное явление. В тексте уделяется внимание тому, что в старину появление чужака в деревнях часто означало различные неприятности, и чужаков часто обвиняли в случившихся напастях и невзгодах.
Другая анализируемая в издании тема — как обычный человек мог стать чародеем. Подробное описание этого содержалось в судебном акте от мая 1815 года, где девятнадцатилетнего Михайлу Петрова Чухарева из Пинежского уезда Архангельской губернии обвинили в том, что он «портил икотою» свою двоюродную сестру Офимью Александрову Лобанову.
В своих показаниях суду Чухарев заявил, что научил его колдовству крестьянин Федор Григорьев Крапивин и подробно описал произведенные им для получения помощи от нечистой силы ритуалы, среди которых были хождения ночами к перекрёстку.
Также в книге рассказывается о том, как родственники и друзья коллективно стремились помочь жертве, и как при этом порой проявлявшаяся немалая физическая сила кликуши выглядела неоспоримым доказательством того, что ее безвольным телом овладел могучий мужчина-демон.
«К концу XIX века фигура кликуши, получившая долю сочувственного внимания в произведениях писателей-реалистов Писемского, Лескова, Достоевского и Толстого, в значительной степени была вытеснена образом ведьмы в результате растущего увлечения интеллигенции оккультизмом и темной стороной крестьянских верований. Исключение из правил составляли новые более специализированные работы психиатров, стремившихся раскрыть ментальные основы кликушества. Но даже психиатры стали частью новой интеллектуальной и культурной эры. Период с 1890 года до кануна Первой мировой войны, известный в России как Серебряный век, стал свидетелем культурных и интеллектуальных экспериментов в ответ на все более фрагментированный и опасный мир, порожденный западной наукой и материализмом. Социальные волнения, сопровождавшие развитие промышленности, появление в городах все большего количества крестьян, далеких от городской культуры, рост венерических заболеваний — вот чем было отмечено общество, «неумолимо идущее к мировой войне и революции». В то время как в моду среди образованных средних и высших классов входит порнография, вульгарное поведение, наркомания, сексуальные эксперименты и антисемитизм, для тех же групп становится свойственным влечение к русской крестьянской культуре и одновременное отвращение к ней…»
«Существуют теории денег, согласно которым религии являются культурными артефактами, скорее похожими на денежные системы. Их присутствие в каждой культуре легко объяснимо и даже оправдано...случай конвергентной социальной эволюции. Кому это выгодно? Здесь мы можем рассмотреть несколько ответов:
А. Все в обществе выигрывают, потому что религия делает жизнь в обществе более безопасной, гармоничной, эффективной. Некоторые выигрывают больше, чем другие, но никому не пришло в голову пожелать потерять все целиком.
В. Элита, контролирующая систему, выигрывает за счет других. Религия больше похожа на финансовую пирамиду, чем на денежную систему: она процветает, охотясь на плохо информированных и бессильных, в то время как ее бенефициары с радостью передают ее своим наследникам, генетическим или культурным.
С. Общество как единое целое выигрывает. Независимо от того, получают индивиды выгоду или нет, увековечивание их социальных или политических групп усиливается за счет соперничающих групп».
Дэниел Клемент Деннетт. Разрушение чар. Религия как природное явление
В книге профессора философии, чьи исследования лежат в области философии сознания, рассказывается о том, как возникают идеи и овладевают массами; роли религиозных явлений и рождения новых коммерческих мифов. Одна из тем – чем объясняется религия? Ведь то, что ценят люди, он ценят по каким-то причинам.
В тексте уделяется внимание карго-культам. Когда европейцы на своих огромных парусных кораблях приплывали к островам, расположенным в южной части Тихого океана, то аборигены были поражены этими кораблями, и теми предметами, которыми дарили вождям европейцы. Но если над Землей появятся огромные космические корабли и спустившиеся из них инопланетяне подарят земным вождям чудесные невиданные предметы, не будет ли это напоминать те самые колониальные вояжи европейцев? И реакции людей также позабавят инопланетян, как европейцев забавляли восторги и предрассудки аборигенов, первоначально считавших приплывших чужаков полубогами.
В века неудержимого технического прогресса и постоянного обретения множества новых устройств в быту, миллионы людей не только дают своим автомобилям, мотоциклам, яхтам личные имена, но и уговаривают их перестать капризничать. Это ничто иное, как современный анимизмом, т.е. давать душу этим движущимся (лат.anima), но не живым существам.
Шерлок Холмс не существовал, но существуют люди, которые изучают его и его методы. Также существуют реальные известные люди, но то, как их часто воспринимают другие, совсем не похоже на действительность! Вместо реально существующих для множества людей реальнее те самые воображаемые. Наглядны пример: королеву Елизавету II, как показывала одна из программ ББС, в детских садах воспринимали как нечто среднее между мамой и королевой сердец. Воображаемая королева была для них интереснее реальной.
«Верю ли я в ведьм? Все зависит от того, что вы имеете в виду. Если вы имеете в виду злое заклинание, вызывающее женщин, которые сверхъестественно летают на метлах и носят черные остроконечные шляпы, ответ очевиден: нет, я верю в ведьм не больше, чем в пасхального кролика или Зубную фею. Если вы имеете в виду людей, как мужчин, так и женщин, которые практикуют Викку, популярный культ Нью Эйдж в наши дни, ответ одинаково очевиден: они не более сверхъестественны, чем девушки-скауты.
Верю ли я, что эти ведьмы произносят заклинания? Да и нет. Они искренне произносят различные заявления, ожидая изменить мир различными сверхъестественными способами, но они ошибаются, думая, что это им удается, хотя они могут изменить свои собственные отношения и поведения».
«По нашему мнению, главная разница между общей мусульманской историографией и османской исторической традицией состоит в том, что османские историки не рассматривали власть правителей Османского государства сквозь призму образов власти аббасидской эпохи… С нашей точки зрения, эта разница объясняется, во-первых, становлением османской историографии в иных исторических условиях и, во-вторых, кризисом традиционного способа легитимации власти в османском обществе, что пробудило интерес османских историков к учению Ибн Халдуна о естественных закономерностях социальной эволюции».
Ильшат Насыров. Ибн Халдун в османской историографии
Это фундаментальное научное исследование посвящено вопросам, связанным с формированием и развитием историографии в периоды до и после появления Османской империи. В первых главах книги рассматривается влияние персидской историографической традиции на османскую, ведь османские историки поначалу создавали свои произведения, беря за образец труды персидских учёных. При этом османский подход к исторической науке отличается от характерной для этого времени общей восточной традиции, основанной на образах и подходах, сложившихся в Аббасидском халифате. К моменту формирования Османской империи социально-политическая обстановка изменилась, что потребовало новых способов легитимизации власти.
Особое внимание автор уделяет влиянию, которое на османскую историческую науку оказало учение об обществе арабского мыслителя Ибн Халдуна. На его основе османские учёные создали целый пласт своих оригинальных произведений, посвященных проблемам развития государства и социума. Этот интерес объясняется тем, что в силу упомянутых выше изменений оказалась крайне востребованной созданная Ибн Халдуном теория социальной эволюции.
«Человеческое общество необходимо. Люди могут добыть себе пропитание и защититься от диких животных лишь совместными усилиями, иначе бы человеческий род просто исчез. Есть два вида социальной общности — внегородской (бадави) и городской (хадари), отличающиеся способами трудовой деятельности и разными типами межличностных связей в обществе. Преобладание натурального хозяйства во внегородском обществе и примитивных ручных орудий труда позволяет людям, проживающим в сельской местности, добывать жизненные средства, которых хватает только для поддержания жизни. Главные же черты городского общества — ремесленное производство с использованием множества технологий и торговля, культура и высокий уровень потребления, сложная социальная структура и развитые государственные институты. Внегородское общество характеризуется бедностью, отсталым общественным строем и простотой нравов. Городское общество, наоборот, отличается роскошью благодаря развитости производства, ослаблением коллективизма и группового духа, гедонизмом, единоличной властью царя, порчей нравов и т.д. Эти два общества (внегородское и городское) связаны отношениями генетического характера, поскольку они представляют низшую и высшую стадии развития человеческого общества, цивилизации. Экономической основой первого вида общества является аграрное производство. Городское общество характеризуется товарным производством, позволяющим поддерживать высокий уровень жизни горожан».
«До 1929 года улица Рубинштейна называлась Троицкой. Когда-то она была хозяйственным проездом, идущим вдоль непарадной части вельможных усадеб на Фонтанке. Исторически это первая коммуникация между Невским и Загородным проспектами (Владимирский трассировали на двадцать лет позже). Вплоть до 1860-х годов вся местность вокруг нынешней станции метро «Достоевская» напоминала скорее теперешнюю Вырицу, чем Петербург. Двух- и трехэтажные каменные дома казались небоскребами среди преобладающей деревянной застройки…
Нынешнюю застройку улицы определил катастрофический пожар 22 мая 1862 года. Это случилось в Духов день, когда проходил традиционный смотр купеческих невест в Летнем саду. Все купечество теснилось вдоль главной аллеи сада, наблюдая дефиле из мамаш и девиц, проходящих через шеренги зрителей. Вдруг в пять часов вечера пронесся слух: горит Апраксин двор. Извозчики немедленно вздули цены, так что довольно тучным купцам приходилось либо платить какие-то неслыханные деньги «ванькам», либо, пыхтя и задыхаясь, бежать по Большой Садовой. Действительность превзошла все худшие ожидания: Апраксин двор уже сгорел. Дул сильный западный ветер, поэтому огонь перекинулся через Фонтанку. К девяти вечера сгорело все до Загородного проспекта. Ходили слухи, что катастрофа – дело рук радикально настроенных студентов-социалистов. Последовали репрессии: на восемь месяцев были закрыты журналы «Современник» и «Русское слово», арестованы властители дум либеральной молодежи Дмитрий Писарев и Николай Чернышевский, а также один из создателей «Земли и воли» Николай Серно-Соловьевич. Как бы то ни было, благодаря майскому пожару в двух шагах от Невского образовалась пустошь…».
Лев Лурье, Софья Лурье. Ленинград Довлатова. Исторический путеводитель
Книга рассказывает не только об известном писателе и его окружении, но и об обстановке тогдашней жизни — авторы брали интервью у вдовы и друзей Довлатова. В издании бережно воссоздаётся настоящая ленинградская атмосфера 1950–1970-х годов, как официальная, так и полуофициальная, в первую очередь связанная с творческими людьми и организациями. «Ленинградское отделение Союза писателей было организовано в 1934 году… Писатели становились своего рода номенклатурными работниками, и чтобы попасть в официальную печать, необходимо было вступить в эту организацию».
Уделено в книге внимание Дому книги на Невском, описаны литературные объединения (ЛИТО), Дом писателей им. Маяковского, Дом журналистов, Государственное экскурсионное бюро, знаменитое кафе-автомат на Невском, престижные рестораны и известные пивные ларьки, известные городские места, где жил и бывал Довлатов. Авторы рассказывают также про «вторую оттепель» и застой, который в Ленинграде был связан с одним из самых консервативных деятелей брежневского окружения Григорием Романовым.
«Большая часть ленинградской жизни Сергея Довлатова прошла в доме № 23 по улице Рубинштейна, построенном в 1911 году гражданским инженером Александром Барышниковым. Барышников был известным в городе зодчим, состоял членом Государственной Думы и даже был назначен министром Временного правительства после Февральской революции. Исходя из стандартов Серебряного века, дом – шикарный: центр города, налет северного модерна, три двора, один из которых распахнут на улицу Рубинштейна, чугунное литье, фонарики над входом, декоративные колонны в парадных, кафельные печи. В доме изначально были устроены лифты, имелось паровое отопление, гаражи.
До революции квартиру здесь имел богатейший купец-лесопромышленник Антип Ефремов, чей сын Иван Ефремов стал известным на весь Советский Союз писателем-фантастом и видным палеонтологом. В 1920-х в доме на Троицкой поселилось семейство Райкиных, Аркадий Райкин ходил в ту же школу № 206, которую впоследствии окончил Сергей Довлатов. С середины 1920-х жилплощадь в доме предоставлялась артистам Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина – соседом Довлатовых был, например, народный артист СССР Константин Адашевский.
Как и прочие многоквартирные дома в центре города, в 1920-х он подвергся уплотнению: в жилище, рассчитанном когда-то на одну семью, теперь ютилось от 20 до 30 человек. Довлатовская квартира № 34 на третьем этаже до революции принадлежала семейству Овсянниковых – один из них, «жизнелюбивый инженер» Гордей Овсянников с домочадцами продолжал жить на уплотненной жилплощади и в 1950-х».