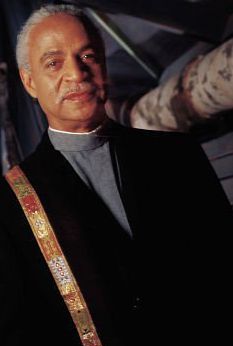Вслед за laapooder, который сегодня выложил перевод свежего рассказа из журнала «Lightspeed», я решил тоже перевести что-нибудь оттуда. И как я мог пройти мимо зарисовки с таким провокационным названием?
Но сразу оговорюсь, сцена, описанная в рассказе сейчас шокирует далеко не так, как это было раньше. И не так, как она будет шокировать в описанном автором будущем.

Оригинал рассказа можно прочесть на сайте журнала.
А найти рассказ на фантлабе, чтобы поставить оценку можно тут:
Стивен Грэм Джонс «Распорнушная порнуха в Порнограде».
Имя женщины было утрачено во времена Падения, как и многое другое, что когда-то считалось незыблемым: времена года, реки, чистый воздух — но её образ сохранился, стал неизгладимым. Великая стена белого, на которую раз в год проецируется её кощунство, стала Меккой в нашем новом мире. Пустыня на мили вокруг усыпана выбеленными костями тех, кто жаждал узреть её обнажённое тело, дабы удостовериться самим и убедить соплеменников, что подобная ересь когда-то существовала. Запись на Великой стене белого проходит быстрее, чем можно досчитать до ста шестидесяти. Начинается и заканчивается она одинаково — звуком утекающей галлонами воды, и одна мысль об этом опустошает душу. Подобное бездумное расточительство, конечно, является притягательной, хоть и крамольной приманкой для жаждущих взглянуть на сие греховное действо. Но садитесь и продолжайте смотреть, братья-паломники, садитесь на эти поднимающиеся и опускающиеся бугры перед Великой стеной белого, могильные плиты первых прихожан, умерших при виде последовавшего святотатства. Худшее впереди. Стать свидетелем столь непристойного акта есть искупление, ибо эта женщина, несомненно, одна из наших предков, а значит связана с нами историей и кровью, если не культурой и лишениями. Если мы не хотим повторить ее грех, мы не должны отводить взгляд. Она скинет одежду и предстанет пред нами с обнажёнными плечами, дабы продемонстрировать, что на её коже нет открытых язв, опухолей или паразитов, она ступит в место, которое нельзя назвать иначе чем Келья. Её религиозное значение можно угадать по правильности камней, которыми она обложена с трёх сторон, с четвертой же стороны ритуальный занавес закрывает вход. Животное, с которого можно было снять столь прозрачную кожу, более не бродит по нашему миру. Этот занавес на мгновение затуманивает образ женщины — бледнокожей, коротковолосой, беззаботной — преклоняющей колени перед инструментом, слишком священным, чтобы его лицезреть, зачинающим следующий акт невозможного действа. Это та часть записи, где все, расположившиеся на могильных плитах, либо ахают в изумлении, либо до самого конца лишаются способности дышать, ибо то, что теперь на экране, столь же кощунственно, сколь и неотразимо: вода течёт ровным непрекращающимся потоком капель из перевёрнутой серебряной чаши, выступающей из передней стены Кельи. Женщина закрывает глаза и все как один паломники, омывающиеся в завораживающем свечении ереси, обнаруживают, что не могут не потирать в след за женщиной предплечья и плечи, воображая, что подобные Кельи всё ещё существуют, и вода доступна больше, чем по ложке за раз, что её так много, что ею можно пользоваться вот так. А сама женщина, словно чувствует нас, следящих за ней, впитывающих её наслаждение от неиссякаемых струй воды, наслаждение не только очевидное, но и заразительное. Но что происходит когда она подставляет свой открытый рот под этот бесконечный поток? Вот тогда толпа, собравшаяся перед ней, возвышает голоса в гневе, требуя: «Пей, пей!» Как можно устоять, против такого источника? Но, конечно, женщина не пьёт. Именно потому детей приводят сюда, учиться на этой записи. И когда вода продолжает литься, поблескивая на её коже, но ускользая, не пойманная, чтобы больше никогда не быть использованной... вот тогда появляется Умеренность. Её высокая фигура затуманена полупрозрачным занавесом, её лицо неразличимо, волосы убраны в пучок, платье безлико и серо, но её нож, вонзающийся в незапятнанную плоть порочной женщины, он остер. Очень остер. Среди людей, собравшихся посмотреть, как эта обнажённая, расточительная женщина будет наказана Умеренностью, всегда находится один, который встаёт, когда начинается казнь, встаёт не просто чтобы ликовать, но чтобы реветь в экстазе от праведности сего действа. И тогда следом поднимаются все, дабы поддержать приговор Умеренности, дабы не обнаружить её размытую фигуру позади себя, когда окропят пыльный подбородок каплей от второго глотка своего дневного рациона воды, вместо того чтобы напоить ею иссохшее горло. И когда жизнь женщины раскалывается по кусочкам, сама запись дробится на все более мелкие и быстрые фрагменты с каждым ударом лезвия Умеренности, пока, как и должно случиться, женщина не падает замертво на стену своей Кельи, хватаясь за занавес — что должно быть раскаянием за то, что она так легкомысленно обошлась с бесценным даром. Здесь, дабы мы не забыли суть и смысл записи, мы заглядываем в отверстие на дне её Кельи, и тогда вся толпа, как один человек, падает на колени, разделяя боль от бесконечного расточительства, которое они не могут остановить: вода, всё ещё струящаяся из высоко расположенной серебряной чаши, теперь спиралью уходит в развёрзстое горло на дне Кельи, дабы упасть в пустоту и никогда не быть испитой ни человеком, ни зверем, ни растением — величайший грех из всех. Великая стена белого, на которую проецируется запись, конечно, вся в сколах и выбоинах, ибо, когда запись возвращается к мёртвому глазу женщины, вынужденному свидетельствовать святотатство, любой предмет, попавший под руку, летит следом за пальцем света, доносящим её образ до нас. Другие же, очарованные записью, возбуждённые видом питательной влаги на экране и не заботящиеся о последствиях, доведённые до умопомрачения отблеском Того, Что Было Когда-то, совокупляются в свете, падающем на них, и дети, зачатые таким образом, сами однажды будут приведены за руку к поднимающимся и опускающимся могильным плитам, дабы взирать в благоговейном исступлении, их маленькие ручки будут сжиматься в кулачки, жалея, что они сами не могут взять нож и заколоть ее, но они помнят, что даже слезы ярости нужно беречь, ради всеобщего блага.