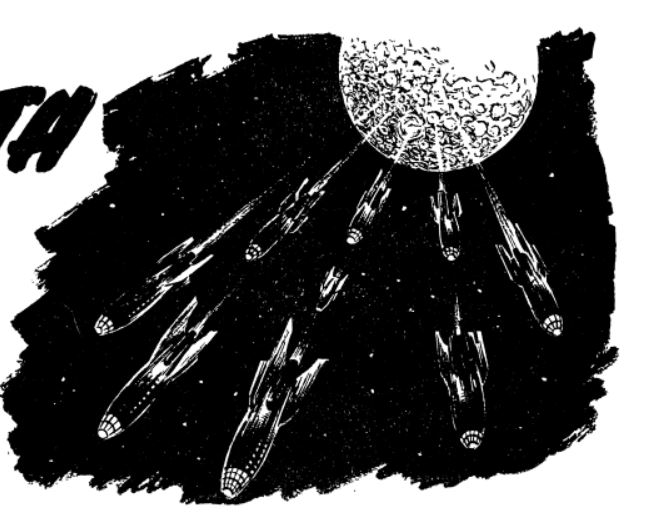Планета БАСМАЧА-ИМПЕРАТОРА, принцесса ИРА-ЛЕНА сидит за столом и старательно выводит что-то кривым почерком.
ИРА-ЛЕНА: Дорогой дневник! Это уже вторая серия, а в первой меня не было, но вторую надо было с чего-то начинать, так что вот она я, вся такая из себя красивая. Так, что еще... Краткое содержание предыдущей серии! Мой отец, Басмач-Император, – старая хитрая сволочь. Он устроил всё так, что барон-на Харконнен перебил весь род герцогов д’Артаньяндесов и вернул себе планету Дыню, на которой выращивают галлюциногенные дыни, которые едят пилоты космических кораблей и дальше я не помню, в учебнике было как-то смутно написано, но, короче, род Харконненов снова при дынях, а д’Артаньяндесы разгромлены, и в этом как-то замешаны бенеджессеритские преподобные матери и так далее. Но, короче, дорогой дневник, ходят слухи, что сын герцога Пол д’Артаньяндес и его мать Джессика спаслись в пустыне, нашли пристанище в одичавшем колхозе «Табор», председатель которого тайно посещает синагогу, в смысле, верующий – в мировую революцию...
ПРЕПОДОБНАЯ МАТЬ: Она еще уроки не сделала.
БАСМАЧ-ИМПЕРАТОР: Дорогая Еленапетровнаблаватскайя, ребенку надо отдыхать.
ИРА-ЛЕНА: Интересно, что там на Дыне?..
Сцена 2Планета Дыня. Колхоз «Табор». Председатель ШТИХЕЛЬ проводит совещание с бригадирами.
ШТИХЕЛЬ: Товарищи! Не галдите, товарищи! Я знаю, не все тут верят в идеи революции. Однако, как пророчил великий Марксэнгельс, космическая революция неизбежна, и я уверен, что вот этот мальчишечка поможет нам ее осуществить...
БРИГАДИРЫ: Червям скормить! Воду откачать – и червям! Нам тут голубая кровь не нужна! Буржуи! Как им хвост прищемило, так забегали вшами на гребешке!
ПОЛ: Маман, что они говорят? Скормить нас червям? Мне страшно, маман! Вот был бы здесь папа́... Но папа́ больше нет...
ДЖЕССИКА: Сына, цыц, дай послушать, мужчина складно выступает.
ШТИХЕЛЬ: ...Мы этот первобытнообщинный скепсис отметем, товарищи! Товарищ Пол решительно отринул свои буржуйские корни и теперь телом и душой с нами! Он хочет мстить капиталистам Харконненам!
ПОЛ: Ну я не знаю...
ДЖЕССИКА: Сына, ты имбецил? Сказали – мстить, значит, будешь мстить.
ПОЛ: Голыми руками?
ДЖЕССИКА (задумчиво): Тут на юге, я слышала, много троцкистов...
ПОЛ: Маман, только не ваша бенеджессеритская пропаганда!
ДЖЕССИКА: А какие альтернативы? Хочешь, чтобы нами червь покушал?
ШТИХЕЛЬ: ...Что до женщины, товарищи, я лично проведу с ней экзамен на знание законов диалектики!
Сцена 3
Пока ДЖЕССИКУ экзаменуют на знание законов диалектики, ПОЛ снаружи знакомится поближе с ЧУНЕЙ.
ПОЛ: Привет. Я Пол.
ЧУНЯ: Да пошел ты.
ПОЛ: А что так?
ЧУНЯ: А ты буржуй ненашенский. А мы тут простые, колхозные, все равны.
ПОЛ: Я хочу быть таким же!
ЧУНЯ: Да ну чо ты говоришь.
ПОЛ: А чо вы, девки, ржете?
ЧУНЯ: Да слыхали мы, что Штихель учуял в тебе вождя мировой рэволюции!
ПОЛ: А вдруг я и есть он?
ЧУНЯ: Хорошо херню пороть-то. Ты себя в зеркало видел? Какой-то, блин, шаламе...
ПОЛ: Да что сразу шаламе-то... Ой! Маман! Что с ней? Куда вы ее несете? Почему она не двигается? Она умерла под пытками?
ДЖЕССИКА: Ик! Сына... Ты бы выпил с нами... Это они из дыни гонят... Си... Си...
ЧУНЯ: Синюховка. Из галлюциногенной дыни, да. Нажралась твоя мамаша. До синих соплей. Ох, Штихель...
ДЖЕССИКА: Сына, ты как будущий... вождь этой, как ее... ты обязан выпить!..
ПОЛ: Я не вождь, маман, ну что вы меня позорите?
ШТИХЕЛЬ: Не скромничай, товарищ Пол, у тебя... ик... большое будущее! Я в тебя верю. А я, ты знаешь, старый коммунист...
Сцена 4
Резиденция Харконненов. Барон-на В. В. ХАРКОННЕН и его родственники РЯБАН и ФЕДЯ-РОЖА инспектируют отдел бухгалтерии.
В. В. ХАРКОННЕН: Господин обербухгалтер, о детках ваших мы с вами поговорили, рад за их успехи в кружке авиамоделирования, а вот скажите: отчего у нас сокращается прибыль от дыни?
ОБЕРБУХГАЛТЕР: Разбойные нападения одичавших колхозников, вашество!
В. В. ХАРКОННЕН делает знак, и РЯБАН с наслаждением начинает бить ОБЕРБУХГАЛТЕРА головой об экран компьютера.
ФЕДЯ-РОЖА: Вот верно Марксэнгельс говорил: за 300% прибыли капиталист совершит любое преступление...
В. В. ХАРКОННЕН: Чего сразу прибыль? А удовольствие? Имеем мы право на удовольствие, я тебя спрашиваю?
ФЕДЯ-РОЖА: А ничего, что у нас какой-то род садистов-убийц, людоедов и насильников? Что мы порешили д’Артаньяндесов – это семечки. В книжке вы, дядя, и вовсе педофил...
В. В. ХАРКОННЕН: Это в книжке. А вообще я эффективный менеджер. Правда, Рябанчик? Ты слабо бьешь. Дай я. Или лучше Федечка. Федечка, бери ножичек, иди сюда...
Сцена 5
Колхоз «Табор» весело пьет горькую после успешного подрыва харконненовского комбайна.
ШТИХЕЛЬ: Товарищи! Надо дать ему боевое тайное имя! Мы назовем тебя... Владимирильичленин! Это значит по-старинному «самый человечный человек».
ПОЛ: Уй, спасибо!
ШТИХЕЛЬ: И еще одно тайное имя мы тебе дадим – подпольную кличку! Выбирай любую.
ПОЛ: Как называется этот... ну, суслик такой мелкий... бегает по пустыне, дыни жрет?
ШТИХЕЛЬ: Чегевара!
ПОЛ: Во!
ШТИХЕЛЬ: Отлично! Быть тебе, товарищ Пол, Владимирильичленином Чегеварой! Ура, товарищи!
КОЛХОЗ «ТАБОР»: Ура!
ШТИХЕЛЬ: Обниматься к товарищу Полу подходим строго в порядке очередности. Товарищ Чуня, вы куда поперед мужиков лезете?
ЧУНЯ: Дело молодое!
Сцена 6
ПОЛ и ЧУНЯ сидят на бархане.
ПОЛ: Давай еще поцелуемся?
ЧУНЯ: Да ну тебя. Только слюни тратить.
ПОЛ: Ну ладно. Эх! Вот у меня теперь тайное имя есть. Владимирильичленин – это звучит гордо! А у тебя есть тайное имя?
ЧУНЯ: Есть.
ПОЛ: Какое?
ЧУНЯ: Надеждаконстантиновнакрупскайя.
ПОЛ: Круто! Наде... накру... Я тебя так и буду называть, мне нравится!
ЧУНЯ: А я его ненавижу. Лучше просто «товарищ Чуня».
ПОЛ: Ну ладно. Эх, товарищ Чуня, мало в тебе романтики революции...
ЧУНЯ: Кто-то целоваться хотел? А вот хер тебе. С рэволюцией целуйся, пионэр!
Сцена 7
ПОЛ и ДЖЕССИКА стоят у скалы в ожидании скорого червя.
ДЖЕССИКА: Сына, я поеду на юг. Там много троцкистов. И ты тоже двигай со мной. Соберем народ, врежем Харконненам по яйцам! Чтоб суки век помнили.
ПОЛ: Маман, я с вами на юг не поеду.
ДЖЕССИКА: А что так?
ПОЛ: Маман, я ведь точно знаю, для чего вы едете на юг. Вы там будете свою бенеджессеритскую пропаганду разводить. Насчет мировой революции, и чтобы я вождем был. Маман, не надо!
ДЖЕССИКА: Почему это не надо? Да я этим колхозникам надежду даю!
ПОЛ: Маман, ну это не надежда. Вы им мозги пудрите. У них только грабли для песка да ножик тупые, куда им с буржуями сражаться? Вот будь у нас ядреная бомба – тогда да. А так – маман, прошу, воздержитесь!
ДЖЕССИКА: А на юге хорошо! Ты приезжай потом. Я уж всё подготовлю, встретят тебя по-царски, синюховкой как следует напоят!
ПОЛ: Маман, да вы сами синюховку трескаете дни напролет! А вы ведь беременны! Дочка алгоколичкой уродится!
ДЖЕССИКА: Вот хамло! Воспитала на свою голову! А сестренка твоя, сучонок ты неблагодарный, уродится Аней Тэйлор-Джой!
Сцена 8
Колхозники подрывают очередной комбайн и набегают на охрану.
ПОЛ: А ну стой! Тпру! Слушьте, да это же Гурьев! Гурьев-Халлик, сколько лет, сколько зим!
ГУРЬЕВ-ХАЛЛИК: Милорд! А вы и есть тот самый Дубровский, которого все помещики боятся-с?
ПОЛ: Ну! Айда с нами!
ШТИХЕЛЬ: Это кто такой?
ПОЛ: Товарищ мой, верный слуга папа́! Гурьев-Халлик.
ШТИХЕЛЬ: А чо второе имя нерусское?
ГУРЬЕВ-ХАЛЛИК: Я эстонец по маме-с.
ПОЛ: Штихель, ну чья бы корова мычала...
БРИГАДИРЫ: Еще одного барина кормить? Скормим его червям, а? Штихель, ну пожалуйста!
ГУРЬЕВ-ХАЛЛИК: Не надо меня червям-с! Я вам пригожусь! Я секрет знаю-с!
Сцена 9
Ядреный арсенал д’Артаньяндесов.
ГУРЬЕВ-ХАЛЛИК: Милорд, пальчики вот сюду в розетку суньте-с, тогда замкнет и всё будет в ажуре-с... Вот, прошу-с! Изволите видеть, ядреный арсенал папаши вашего-с!
ПОЛ: Охренеть!
ГУРЬЕВ-ХАЛЛИК: Не то слово, милорд! Вот и папаша ваш, кстати, свою военную доктрину весьма коротко выражал. Одним буквально словцом-с.
ПОЛ: А как именно? Что за доктрина была у папа́?
ГУРЬЕВ-ХАЛЛИК: Простая и эффективная? Бывалоча, смотрит он на ядреные ракеты свои и говорит: «А ну, Гурьев, – ёбнем-с?»
ПОЛ: «Ёбнем»?
ГУРЬЕВ-ХАЛЛИК: «Ёбнем-с!»
ПОЛ: Хорошая доктрина, годная, я запомню...
Сцена 10
В кабинете председателя колхоза ПОЛ объясняет план ШТИХЕЛЮ, ЧУНЕ и прочим.
ПОЛ: Значит, Штихель, ты под прикрытием песчаной бури скачешь на боевых червях отсюда... А ты, Чунька, по-пластунски подкрадываешься тут... Остальные подходят вот отсюда...
ШТИХЕЛЬ: Сразу видно вождя мировой революции!
ЧУНЯ: А потом что?
ПОЛ: А потом я нажимаю на кнопку в ядреном чемоданчике, и буржуям херак. Потом я режу барона-на. Потом басмача-императора. Забираем все дыни себе. И галактика наша!
ШТИХЕЛЬ: Мудро! Вождь! Ну чистый вождь!..
Сцена 11
ПОЛ в нерешительности замер перед дверями колхозного бара, где подают синюховку.
ПОЛ: Ну нет, я так больше не могу, это всё такие нервы, права была маман, надобно мне нажраться...
Сцена 12
В резиденции Харконненов БАСМАЧ-ИМПЕРАТОР крайне недоволен сложившейся ситуацией.
БАСМАЧ-ИМПЕРАТОР: Владимир Владимирович, любезный, чисто для начала: как вы объясните падение урожая галлюциногенной дыни на 80%? У вас план! За такое можно и партбилет на стол положить!
В. В. ХАРКОННЕН: Ваше Величество, не виноватые мы. Погода дурацкая, дождя давно не было, черви-паразиты повадились дыню прямо с бахчи жрать...
БАСМАЧ-ИМПЕРАТОР: Дочурка, заткни ушки, я перейду на сардаукарский. Тычобля? Оборзелбля? Барон-на! Чушпанбля! Чтоб-на былабля дынябля! Давнобля посоплям-на получалбля? Брюхо-на наелбля!
В. В. ХАРКОННЕН: Ваше Величество, не велите казнить... Мы всею семьею радеем на благо государства космического! Вот Федечка ночей не спит, не ест, не пьет, захваченных колхозников пытает-пытает, пытает-пытает...
БАСМАЧ-ИМПЕРАТОР: Ачобля мне-на какой-тобля Чегевара-на предъявыбля кидаетбля? Кто-такой-на Чегевара-на?
ФЕДЯ-РОЖА: Это местный Дубровский такой, Ваше Величество. Голытьба, возомнившая себя карбонарием. Мы его кокнули. Ну или он на юга подался. Нет никакого Чегевары, Ваше Вели...
Сцена 13
Набравшийся синюховки ПОЛ стоит на бархане в развевающемся черном плаще и косо смотрит на часы.
ПОЛ: Час мировой революции пробил! Гурьев!
ГУРЬЕВ-ХАЛЛИК: Я!
ПОЛ: Ёбнем!
ГУРЬЕВ-ХАЛЛИК: Есть!
ПОЛ: Ча-ча-ча!
Сцена 14
В резиденции Харконненов всё в дыму, все кашляют. Дым рассеивается. Из него выныривают основные действующие лица.
ПОЛ: Чо, суки, картина Репина?
БАСМАЧ-ИМПЕРАТОР: В каком смысле?
ПОЛ: Не ждали?
БАСМАЧ-ИМПЕРАТОР: Господи! А я уж и не чаял встретить тут образованного человека. Сразу видно, не в трущобах воспитывались, только одеты почему-то в сальные тряпочки...
ПОЛ: А ну заткнулся! Да ты знаешь, кто я такой? Не знаешь! А я – герцог Пол д’Артаньяндес Владимирильичленин Чегевара, вождь космической революции, повелитель гигантского червя и хозяин галлюциногенной дыни! Стоградусная синюховка течет в моих жилах! Вам всем конец! Для начала тебе, жирная буржуйская свинья... Я тебя зарежу, прямо вот как свинью. Визжать будешь?
В. В. ХАРКОННЕН: Не дождетесь. Ви-и-и-и-и!..
ПОЛ: Кто следующий? Еленапетровнаблаватскайя?..
ПРЕПОДОБНАЯ МАТЬ: Пол, мы для чего тебя двести поколений выводили? Сучонок неблагодарный! Вы звери, господа!
ПОЛ: Так вот, маман, откуда у вас этот вокабулярий...
ДЖЕССИКА: Сына, я тебе все-таки мать. Внутри семьи можно. А вот с вами, Еленапетровна, я еще поговорю. Будете туфлю целовать. А то и землю жрать, теперь всё от моего настроения, ик, зависит!
ПОЛ: Время резать свиней!
БАСМАЧ-ИМПЕРАТОР: Божечки, да это у нас тут просто Чарли Мэнсон какой-то! Я в восхищении. Дочурка, смотри, какой разносторонний потенциальный жених нам попался! Слушайте, а давайте я за вас дочурку отдам. Она у меня прелесть что такое: бенеджессеритка, спортсменка, красавица, наконец!
ПОЛ: Я когда тебя кокну, дочурка всё одно к нам в общинную собственность перейдет – будет, по заветам Жорж Санд, как стакан воды! И – ты забыл, что ли? Я тебе стрелку забил – сам выйдешь или шестерку пошлешь?
ИРА-ЛЕНА: Папу не трожь!
ФЕДЯ-РОЖА: Ну, я шестерка.
ПОЛ: А, родственничек!
ФЕДЯ-РОЖА: Ты наше семейство не оскорбляй, мы брутальные харизматики, а ты какой-то шаламе...
ПОЛ: Чуня, ножны подержи.
ЧУНЯ: Сам подержи.
ПОЛ: Чего ты надулась-то?
ЧУНЯ: Видела я, как ты на эту бабу зенки-то вытаращил. Шаламе ты моя, шаламе. Пьянь подчервячная...
ПОЛ: Я тя люблю. Ладно. Потом разберемся.
ФЕДЯ-РОЖА: Это что, дворовая девка твоя?
ПОЛ: Девка? Ах ты сука! На! На! На! Так, всё, империя наша. Главного басмача в ссылку, его дочку ко мне в кабинет, старую бенеджессеритку на костер. Гурьев, где Рябан?
ГУРЬЕВ-ХАЛЛИК: Пришит во дворе-с!
ПОЛ: А что там другие дворяне – согласны признать власть советов?
ГУРЬЕВ-ХАЛЛИК: Никак нет-с! Телеграмму дали-с! «Дорогой герцог зпт посылаем вас всем дворянством к такой-то матери зпт при личной встрече отрежем дыни вскл» – ну не суки-с?..
ПОЛ: А я-то надеялся побыть хоть немного императором, раз не довелось побыть герцогом, как папа́... Штихель, ты этого не слышал, понял? Так, начинаем чегеварить в галактических масштабах. Эй, товарищи! Революции действительно суждено быть космической! По коням! Ёбнем-с! Когда-а-а твой дру-у-уг в крови-и-и, а ля ге-е-ерр комм а ля ге-е-е-еро!..
ШТИХЕЛЬ: Вождь! Ну как есть вождь! Я верил! Я знал! Буржуинам пиздец!..
ДЖЕССИКА: Сына, к обеду не опаздывай, я синюховки припасла!
Сцена 15
В пустыне ЧУНЯ вызывает червя.
ЧУНЯ: Вот так и полюби мудака!.. С бабой буржуйской шуры-муры!.. Да пошли они все!.. Пионэры-рэволюционэры!.. Ну в жопу!.. Семейка алкоголиков!.. Эй, такси!..
ЧЕРВЬ (притормаживая): Здравствуйте! Червя заказывали? Куда едем?
ЧУНЯ: В ебеня!
Занавес.

 облако тэгов
облако тэгов